
Этот странный день...
День выдался странным, "булгаковским" с самого начала. Накануне у неё были дела в городе. Переночевав в московской квартире, она уже по дороге на дачу, проезжая мимо храма, неожиданно решила зайти.
Вдоль церковной ограды прямо на асфальте сидели нищие, среди которых выделялся то ли узбек, то ли таджик в малиново-зеленом полосатом ватном халате и чунях с галошами, несмотря на жару.
На коленях у него лежала тюбетейка с мелочью, один глаз был перевязан прозрачной женской косынкой с люриксом.
Когда она подала ему, старик скосил на неё другим глазом, подслеповато-водянистым, медузьим, закивал, улыбнулся, обнажив редкие гнилые зубы, и пробормотал по-своему что-то неразборчивое.
Служба едва началась, на исповеди народу было мало, и она подошла, вспомнив, что давно не исповедовалась. Отстояла литургию, на молебен не осталась и поспешила к машине.
Старик с перевязанным косынкой глазом по-прежнему сидел у ограды. Он полоснул по ней из-под люрикса здоровым глазом, и тот был уже ярко-желтым, как предупреждающий сигнал светофора.
Но самым странным был даже не этот глаз, а то, что дед вдруг старомодно и церемонно, на чистейшем русском, как какой-нибудь замоскворецкий купец, выговорил:
- С днём памяти святых благоверных мучеников Бориса и Глеба, матушка!
Она ошеломлённо вывалила в засаленную тюбетейку всю оставшуюся в кошельке мелочь и бросилась прочь.
И тут удивление сменилось открытием, что да, ведь сегодня действительно "Борис и Глеб", и поведал ей об этом какой-то чудной южный старец, а сама она, простояв службу, как-то всё пропустила мимо ушей.
И вот теперь надо срочно позвонить Варе, если она в Москве, передать Глебу от неё поздравления - сегодня они наверняка созвонятся. И, конечно, пусть заодно передаст привет Гане...
Варя оказалась в Москве и сказала, что пусть Иоанна непременно приезжает, что сегодня будут Егорка с Айрис - отметят Глебовы именины, а потом они вечером провожают Айрис рожать в Штаты. Так настояли её родители, а Егорка /"ты же знаешь, какой от него в этом смысле прок, вечно занят по горло"/ - согласился. Так что они вместе посидят, отпразднуют, морально поддержат Айрис и помолятся, чтобы всё прошло благополучно.
Приехать Варя велела сразу же, чтоб помочь накрыть стол. Хотя правилами Златогорья и не поощрялись лакомства, Иоанна дерзнула купить торт к чаю и фруктов для Айрис и будущего бэби.
В квартире Златовых всё изменилось - две смежных комнаты, где когда-то жили дети, с отдельным входом из коридора, - были заставлены столами с компьютерами. Там работали какие-то ушлые ребята, беспрестанно что-то верещало, попискивало.
Варя пояснила, что там теперь пресс-центр Златогорья. На вопрос об иконах, библиотеке и картинах со снисходительной улыбкой успокоила, что всё вывезено и "в деле". То есть работает и даёт доход и пользу приносит, что теперь у них свой выставочный зал, читальня и т.д.
Про торт Варя сказала, что это разврат, белая смерть, но "красотища". Дала руководящие указания насчёт стола и сообщила, что Егорка повёз Айрис за город к отцу Андрею получить благословение перед дальней дорогой и родами.
Что уже почти наверняка известно - будет девочка. Наука идёт вперёд, и будущую девочку решили назвать Марией - самое почитаемое имя по обе стороны океана.
Машенька, Мэри.
Хлопнула входная дверь. Егорка.
- Ма, у меня здесь дела, надо срочно кое с кем связаться, ты съезди с Айрис. Она внизу в машине, ей тяжело лишний раз подниматься... Там с ней Владик и Николай /шофёр и телохранитель/, пусть прокатится, он мне здесь не нужен...
Поклон от меня отцу Андрею и побыстрей возвращайтесь.
Привет, Иоанна. Как хорошо, что ты здесь...
Егорка, несмотря на разницу лет, всегда называл её по имени и на "ты". Впрочем, он всех своих так называл, по-христиански.
Иоанна сразу же поняла - какое-то ЧП. У неё было чутьё на подобные вещи.
Она открыла было рот - Егор приложил палец к губам.
И только когда лифт с Варей поехал вниз, увлёк Иоанну на кухню и прикрыл за собой дверь.
- Что случилось?
Русоволосый темноглазый Егорка, "лёгкий вес", в потёртой джинсе - к таким всю жизнь обращаются: "молодой человек".
Егорка - он же властитель, возмутитель дум, освободитель душ, лидер "той самой" таинственной Изании. Витязь на белом коне...
- Ну что?! - почти заорала она.
- Прежде всего, тише, - заговорил он своим обычным тоном, властным, не допускающим возражений. - Тачка твоя здесь?
- Вон на насыпи, серая мышь. А что?
- Вижу. Очень хорошо. Сейчас ты спустишься, сядешь в машину и будешь читать газету. Найдётся там газета?
- Кажется, да. "Мир новостей".
- Прекрасно. Будешь читать "Мир новостей", будто кого-то ждешь. Зеркало установи так, чтоб было видно, что происходит перед домом. Если заметишь что - дай знать, - он протянул ей мобильник.
- Что замечу?
- Погоди... Может, показалось. Ну, ты сама знаешь, на нас бесконечные наезды, угрозы, в последнее время особенно часто...
- Что им надо?
- Надо, чтоб нас не было. Чтобы мы "свернули богадельню", как они говорят... Это нормально, значит, началось, процесс пошёл...
Просто мне показалось, я их увидел.
Они пригнулись, но я видел. Троих. С автоматами, на головах эти... с прорезями, эдакий боевичок а ля рюс.
Видел у светофора, потом ещё. Им что-то помешало, я даже знаю, что...
Шестисотый мерс, темно-синий, номер заляпан. Темно-синий Мерс, почти чёрный.
Им нужен я...
За машиной с ребятами вряд ли поехали, они меня пасут. Будут где-то здесь ошиваться. Пока выйду...
Заметишь у подъезда возню или Мерса поблизости - звони. Дождись наших и поднимайся следом, ребята тебя заменят.
- Ой, а как же... - она растерянно глянула на заваленный продуктами кухонный стол и тут же поняла, что сморозила глупость.
- Иди, я всё сделаю.
И вот что - у их мерса фары разные - белая и жёлтая. Запомни, гигант детективного жанра.
Неулыбчивый максималист Егорка балагурил крайне редко. Она поняла, что всё очень серьёзно.
Она в точности исполнила Егоркины указания, но, как ни вперяла взгляд в окрестности дома Златовых - ничего такого. Она пролистала всю газету и совсем было успокоилась.
"Фары у него разные - белая и жёлтая". Ну разные, ну и что?
Мысль, что где-то это уже сегодня было.
Разные. Белая и жёлтая. Господи, нищий! То ли узбек, то ли таджик с разными глазами и замоскворецким говором...
Чушь какая-то, причём тут старик?
А ведь это он её направил к Варе, она б давно уже была на даче, гуляла с Анчаром...
Неприятный холодок пробежал по спине.
Но тут подъехала Егоркина машина. Айрис с Варей безо всяких эксцессов вошли в подъезд, ребята, как и полагалось, остались внизу на посту.
Ничего такого...
Иоанна поднялась следом, расцеловалась с Айрис. Заметно округлившейся и без привычного загара /загорать запретили врачи/. Восхитилась профессионально накрытым столом, подумав, что вот уж верно - талантливый талантлив во всём.
Егорка снова приложил к губам палец, и она покорно выслушала незаслуженные комплименты в свой адрес по поводу сервировки.
Подгребли из "пресс-бюро" ещё какие-то гости, сели за стол. Пытались дозвониться до Глеба, но там были неполадки с линией. Варя на всякий случай продиктовала телеграмму и сказала, что вечером /самолёт улетал около полуночи/, попробует ещё позвонить.
За столом, как обычно, вскоре заговорили о златогорских делах и проблемах, а Иоанна, распрощавшись и спустившись к машине, уже совсем собралась было ехать на дачу, но почему-то раздумала.
Нет, лучше покараулить ещё часок-другой, но зато на сердце будет спокойно. Убедится, что они уехали, что ничего не случилось, перекрестит вслед Егорку с Айрис...
Никакого конкретного плана дёйствия на случай ЧП у неё не было - телефон она вернула Егорке.
Просто акт самоуспокоения...
На амбразуру.
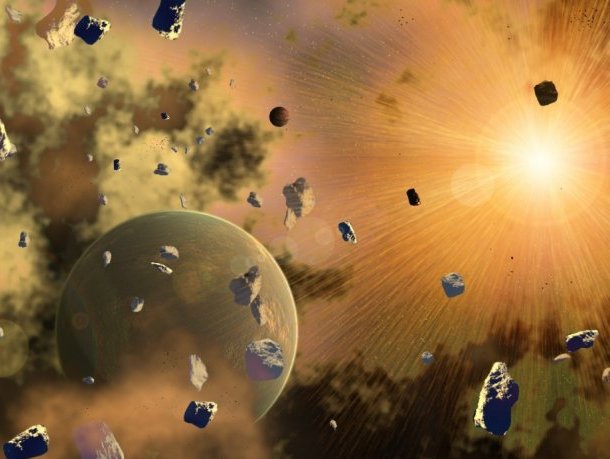
Вот уже десять лет как её страну, в которой она выросла и прожила жизнь и которую любила, захватил многоглавый дракон.
Он разодрал землю на части - каждой голове по куску, разорил, осквернил, оплевал и опоганил всё вокруг.
Он жрал всё подряд - воинов, взрослых кормильцев, стариков, невинных девушек и детей. Жрал не только тела, но и души, заставляя служить не высоким идеалам, а пищей своей ненасытной многоглавой похоти.
Дракон заразил страну своей жаждой крови, и люди азартно расхватывали остатки кровавой пищи с барского стола, не думая, что это кровь их ближних.
А то и пожирали этих ближних сами.
Она привыкла к дракону, к тому, что он непобедим.
Что жертвы спокойно роют себе братскую могилу, умоляя лишь заплатить за рытьё, чтоб было на что выпить и закусить перед смертью.
Она привыкла, что клятвоотступников возводят в святые, а верных до гроба - в предатели. Что всё отныне не то и не так. Что артиллерия бьёт по своим.
Что белые лебеди чернеют на глазах, лев сдаётся комару, а голова голосует за своё отделение от тела.
Что червонцы превращаются в пустые бумажки, полуголые гражданки всех возрастов, в тачках и без, снуют по городу, а на всевозможные "сеансы с разоблачениями" уже никто не обращает внимания.
Что самолёты падают людям на головы, наши бомбы - на наши мирные дома. А вылезающие из-под руин старухи интересуются не судьбой близких, а чем закончилась очередная серия "Санта - Барбары".
Что киногерои, по которой прежде молодёжь сверяла свою жизнь, доживают жалкими придворными шутами и шутихами. Что многочисленные Иваны Бездомные со свечками и в кальсонах бегают за чёрными котами по Патриаршим.
Она привыкла к этому вдруг воплотившемуся в жизнь абсурду, когда "кости встают дыбом", "кровь застревает в жилах", и "волосы стынут в горле".
К тому, что "Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью", что всё здравое и разумное отныне невозможно, лишь прямиком в эту проклятую смрадную пасть.
Что уже "близ, при дверях", и летит птица-тройка не вперёд, не назад, а к чёртовой бабушке, в бездну.
Она убеждала себя, что весь этот апокалипсис предсказан в Библии, что колесу истории противостоять невозможно.
И что Егорка Златов со своей распрекрасной Изанией, сын Варвары и Глеба, просто существует в каком-то ином измерении, недоступном дракону, куда дракону нельзя.
Как никогда не прорвется в сказочную страну, куда улетела Дюймовочка, какой-нибудь озверевший танк с кротом и мышью в кабине и не пальнёт из пушки по эльфам...
Она знала изначально - с Егоркой ничего не может, не должно случиться.
Покров Божий над ним, ибо Господь не посылает испытаний сверх меры и не случайно дал Егорку её отчаявшейся гибнущей стране.
"Волос с головы не упадёт, " - убеждала, уговаривала она себя, и всё же уехать почему-то не могла.
Обычно они стреляют у подъезда, когда жертва садится в машину.
Или в самом подъезде.
Или подкладывают бомбу.
Или из оптического прицела с чердака соседнего дома...
Подъезд ребята наверняка проверили...
Нет, она всё же дождется, и спокойненько поедет на дачу, и будет смеяться над своими страхами.
Только бы наши из окна не заметили, что она, дурёха, здесь торчит.
Хорошо, что темнеет.
В опостылевшем "Мире новостей" уже нельзя было различить ни строчки, когда они, наконец, вышли - Егор, Айрис и Варя.
Расцеловались. Айрис села впереди с шофёром, Егорка с телохранителем сзади.
Она пригнулась на всякий случай, услыхала шум отъезжающей машины.
Хлопнула за Варей дверь подъезда.
Ну вот, теперь и ей можно в путь.
Она повернула ключ зажигания.
И в ту же секунду увидала в зеркале выползающий из-под арки чёрный мерс с зажжёнными в сумерках фарами.
Белой и жёлтой.
Господи, этого не может быть, этого не должно быть...
И всё-таки это происходило.
Как в кошмарном сне разноглазый, неизвестно откуда взявшийся мерс выползал из черной бездны арки, поворачивая направо.
Она сразу поняла, похолодев, что он сейчас там, у аптеки, развернётся и промчится как раз под ней, по дороге под насыпью.
Потом выскочит на проспект и понесётся чёрным разноглазым демоном за мчащейся к аэродрому егоркиной машиной.
В молниеносном прозрении она увидела, как мерс настигает их, бьёт по колёсам, прошивает молниеносной очередью шофёра, Егорку и Айрис с будущим бэби, девочкой по имени Мария, самым чтимым по обе стороны океана.
Смрадно взревёт мотор, сверкнут разноглазые фары. И он, безнаказанный, неуловимый, несудимый, умчится в ночь, как всегда, победив.
И не будет никогда ни Марии, ни Айрис, ни Егорки. Снова только ночь, беспросветный этот апокалипсис...
И она ничего, ничего не может сделать.
Ну уж нет. Никогда!
Неистовая, нечеловеческая ярость, вся ненависть этого десятилетия, накопленная день ото дня, придавленная, заглушаемая прежде разумом, осторожностью, инстинктом самосохранения, прорвавшись вдруг, сжалась и скрутилась внутри каким-то невероятной плотности ядром, сродни тому первозданному, космическому, из которого полетели когда-то во все стороны галактики со скоростью света. Чудовищной плотности точка, готовая к свершению. Ненависть к этому многоглавому драконову отродью, всеоскверняющему и всепожирающему - Родину, святыни, чистоту, судьбы, тела, души.
Ну уж нет!
Она знала, что делать. Ни страха, ни колебания не было, только упоение, восторг от предвкушения наконец-то их остановить.
Смертельным кляпом влететь в их смрадную прожорливую глотку и разнести в клочья.
Так, наверное, кидались на амбразуру, шли на таран.
Заткнуть!
Откуда-то издалека, из детского прошлого, может, из какого-то фильма донесся светлый и чистый зов трубы.
"Поднимайся, барабанщик!"
И ещё откуда-то властное:
"Встань и иди".
Кровь в висках четко отсчитывала секунды - она уже каким-то сверхчутьём распределила их.
По возможности осторожнее сползать с насыпи, - какое счастье, что она поставила машину носом к дороге! - и потом резко нажать на газ.
Вот машина ползет, ползет, зависает, клюет носом...
Ну ещё, миленькая, ещё мгновенье!
Ей казалось, что жигулёнок дрожит от нетерпения, готовясь к прыжку, они теперь были одно целое.
Разноглазый мерс ещё не видит опасности.
Развернувшись, он мчится прямо на неё, ревя мощным мотором и набирая скорость, уже слепят его фары.
Колесо истории, которое она призвана остановить.
Помоги, Господи...
Всё. Пора.
Машина заскакала по насыпи, задёргался в руках руль, взревел мотор.
Истошный вой клаксона справа, заметавшиеся фары, визг тормозов.
Всё, ребята, свершилось.
"Чудище обло, огромно, озорно, стозевно и лаяй".
-Жри, гадина! - то ли прокричала, то ли подумала она, с наслаждением швыряя в надвигающуюся разверстую огнедышащую пасть этот свой торжествующе-победный крик.
Бешено раскручивающуюся, как праща, ярость вместе с плотью, сознанием, душой, железом и страшным апокалиптическим хрустом, скрежетом, огнем и крушением всего и вся.
Его зубы вонзились в неё.
Но ошеломляющаяся невозможная боль утихла, едва начавшись. И закувыркался мир, что-то вспыхнуло, грохнуло, заметались в кувыркающемся мире огненные отблески.
- Это они, они! - краешком сознания поняла она. - Теперь им не добраться до Егорки.
Свершилось! - в победном ликовании пело, орало всё её уничтожаемое, дробящееся, кувыркающееся вместе с машиной естество, и невыразимое неземное наслаждение было в этой смертной муке.
Так, наверное, умирает зерно, прорастая в иное измерение. Побеждает, уничтожаясь.
- Я сделала это. Неужто сделала?..
И когда всё остановилось, замолкло, погасло, когда сжатая, раздавленная, стиснутая со всех сторон - островок сознания, тонущего в сплошном океане какой-то тупой, отстранённой, будто не её боли, - она ещё раз успела подумать, что вопли, сполохи и рёв пламени - это там, у них, в Вампирии.
И блаженно-райским было видение мчащейся по шоссе егоркиной машины, в аккурат успевающей на полуночный заокеанский рейс.
Остановись мгновенье...
В прекрасном этом мгновении вечно летел в довоенном синем небе запущенный отцом змей, вечно танцевала она с Ганей, скинув туфли, на пушистом Регинином ковре. И вечно мчалась по шоссе в вечной безопасности Егоркина машина, спешащая на полуночный заокеанский рейс.
Дальше всё происходило уже в ином измерении.
Чьи-то голоса, прикосновения, отзывающиеся всё той же "не её" болью, то озабоченные, но чаще любопытные пятна лиц, носилки, ослепительная лампа над головой...
Потом лампа станет то ли луной, то ли солнцем - не разберешь из-за наползающих отовсюду туч.
Тучи сомкнулись и пошёл дождь.
Капли были острыми, раскалёнными, жалили нещадно.
Иоанна едва спаслась от них в какой-то полутёмной и душной то ли оранжерее, то ли галерее, где можно было продвигаться лишь по узкой дощатой дорожке. Едва отклонишься - снова капли-иглы вонзались в лицо, шею, руки...
Иоанна старалась идти только вперёд, не обращая внимания на расположенные вдоль тротуара то ли кадки с засохшими стеблями, то ли пустые рамы из-под картин...
Как душно, дышать всё труднее, скрипят доски под её шагами, хотя ног своих она не чувствует.
И что-то ей всё это напоминает, что-то очень давнее и страшное.
Этот деревянный коричневый прямоугольник, к которому она неотвратимо приближается. Четыре ромба с облупившейся краской, криво прибитая ручка...
Дверь с ромбами!
Нет, Господи, только не это.
Сейчас она проснется, и тот давний детский кошмар окажется лишь пустой заблудившейся во времени страшилкой...
Но проснуться не получается. Назад, вправо, влево - не получается - везде огненные иглы впиваются в шею и плечи.
Но пусть уж лучше иглы...
Она задыхается, бороться нет больше сил.
Дверь открывается медленно, Иоанну втягивает в неё, как в чёрную воронку, чёрная вода пополам с чёрной глиной склеивает глаза, нос, губы...
И дверь гулко захлопывается.
За ней нет ни галереи-оранжереи, ни огненных разящих игл, ни чёрной воды пополам с чёрной глиной, ни боли, ни самой Иоанны.
Есть только последняя мысль Иоанны. Остановившаяся, как стоп-кадр, отчаянное:
- Вот и всё.
Эта застывшая мысль и была отныне самой Иоанной, всем, что от неё осталось и ныне, и присно, и во веки веков.
"Вот и всё".
Навеки заевшая пластинка, навсегда остановившийся кадр.
Вечная Иоанна - мысль по имени "Вот и всё".
Конец фильма, где она сыграла свою жизнь. Гаснет свет, зрители расходятся по домам. Все, кроме неё.
Вот что такое ад.
Ни раскалённых сковородок, ни небытия. Лишь бессмертная кромешная мысль, что уже никогда ничего не будет.
И где-то есть Вечное и Прекрасное "Всё", от которого она навеки отлучена.
- Чего вопишь-причитаешь? - проник во тьму кромешную вкрадчивый шепот /Разве она кричала?/ - Ещё не пробило полночь, Иоанна, ещё есть шанс вернуться.
Просто проедешь мимо храма, и никаких тебе узбеков с разными глазами, никаких "Мерсов"...
Проснешься в Лужине с небольшой мигренью, вот и все дела.
По рукам?
- А Егорка? - не спросила, а подумала она.
- Что "Егорка", дался тебе Егорка, проживём и без Егорки, - ласково шелестел Шёпот, - Открутим твой фильм назад и прибавим ещё пару серий с хэппи-эндом.
А Егорка останется в предыдущей серии - разве не бывает?
Внезапная кончина актёра, поправка поневоле...
Ты же профессионалка, Иоанна...
Иоанна-мысль "Вот и всё" стала Иоанной "Нет".
- Ну, на нет и суда нет, - подосадовал Шепот, - Наше дело предложить.
Приоткрывшаяся было дверь с ромбами, за которой пахнула бензиновым шумом московская улица, снова захлопнулась гулко.
Но Иоанна уже знает - это не совсем конец, коли есть выбор.
Значит, есть и другая дверь, в прошлое.
Там лестница, ведущая на второй этаж в детство, к самым истокам бытия Иоанны...
Надо лишь перемотать кассету на начало.
А там, за дверью, как тогда, мама...
И мама, конечно, спасёт.
Но по-прежнему ни дверей, ни стен, ни самой Иоанны.
- Господи!.. - взывает Иоанна-мысль.
И вдруг тонкий золотой луч спасительным проводком пробивает толщу тьмы, влечёт за собой.
Иоанна оказывается замурованной в стене, снова чувствуя тело - сгусток нестерпимой боли и адского холода.
Сплющенный со всех сторон этой стеной, так что нечем дышать, под странно белым слепящим солнцем. Вокруг которого плывут, кружатся в замедленном хороводе белые маски.
И надо вырваться от этого застрявшего в стене собственного тела, как дух из бутылки...
- Господи!..
И золотой луч помогает ей.
Она уже видит в проломе стены слабо-призрачную желтизну лампочки под лестницей, ведущие на второй этаж щербатые ступени, мамин силуэт в этой желтизне, её протянутые руки, выдирающие из боли, холода и тесноты бесценную свою Яночку...
Узкое горло бутылки сжимается до невозможности.
- Ма-ма-а!..
Внезапная волшебная лёгкость, и всё начинается сначала, с самого первого кадра.
Когда она впервые подумала:
- Я хочу.
И удивилась этому своему новорождённому "Я".
Фотография.
Перед ней холодное оконное стекло, мутное и белесое, за которым какое-то непонятное белое движение. Трехлетней Яне страшно интересно, что там, на улице. Она взобралась с ногами на подоконник, смотрит во все глаза. Наконец, догадывается мазнуть ладошкой по запотевшему стеклу и видит кусок неба, населенного странными белыми существами.
Та, другая, взрослая Иоанна знает, что это снег, что она в раннем своём детстве. Иоанна помнит про ненавистный разноглазый "Мерс", про мчащегося к аэродрому Егорку. Но трёхлетняя Яна со своим полным незнанием, Яна, для которой сейчас ничего не существует, кроме таинственных существ за окном, - эта Яна куда реальнее. Она вбирает в себя Иоанну знающую, как река ручей, и ручей уже течёт по всем законам реки, растворяется в реке, оставаясь в то же время самим собой. Истоком, сутью, началом реки.
Какая-то сила подхватывает её сзади под мышки и опускает с подоконника на пол. До чего же он высок, подоконник, на котором она только что стояла. Окна с полу и не видно. Яна ревёт. Слёзы затекают в нос, в уши, за шиворот.
- Соня, она опять: Товарищи, дайте же работать!
Отец. Она почти не помнит его. Он всегда сидел над диссертацией, когда бывал дома, а мама с Яной ему мешали. Так он и не защитится - через год уйдёт на войну и никогда не вернётся.
Взглянуть бы на его лицо... Обернуться...
Но Яна-маленькая не собирается оборачиваться, она ревёт, пытаясь дотянуться до подоконника. Ревёт по неразгаданному чуду, которое у неё отобрали.
- Соня!
Яна снова взлетает на подоконник. Боже мой, мама. Её удивительный запах. В нём кисели и молочные каши, пелёнки и цветочное мыло /не делают больше такого мыла/ - и ещё мамины духи. Она не меняла с возрастом духов, и когда они исчезли, то ли "Весенние зори", то ли "Весенние грёзы" - совсем перестала употреблять какие бы то ни было.
Но сейчас шелковый мамин халатик благоухает "Зорями" вовсю, и ещё в нём сто других маминых запахов, и её тепло, и:
-Ну что, ну снег там. Идёт снег... Он холодный. Бр-р! Если нагреть - растает и будет вода. По нему можно кататься на санках. Вот когда выздоровеешь...
Краем глаза Иоанна видит совсем рядом юный мамин профиль, силится повернуть к ней голову, но... Та, другая Яна поглощена лишь снегом. Удаётся выреветь невозможное - закутав в платок, мама разрешает ей высунуть руку в форточку и ощутить на коже щекочущее ледяное прикосновение. Яна разочарованно разглядывает мокрую пустую ладошку.
- Да вот же она, вот! Смотри.
На рукаве - крошечное белое чудо. Снежинка той последней предвоенной зимы. Первый в памяти снег.
Где она, в каком измерении? Их как бы двое. Яна-первая удивляется снежинке, Иоанна - своей крошечной ладони. Но она повторяет всё, что делала тогда. Никакой свободы воли. Удалось обернуться. Наверное, она и тогда обернулась. Видит отца за столом, под зелёным стеклянным абажуром его лампу, служащую ей во время игры клумбой, чёрный репродуктор над головой. Стол в тёмном углу, и лампа горит даже днём. Как хочется разглядеть отца, но он будто не в фокусе. И мама уходит не в фокус. Она уходит просто на кухню, Иоанна даже чувствует оттуда запах жареной рыбы... Но ей нельзя туда. Она не помнит, что было дальше, глазу не за что ухватиться, и комната расплывается, исчезает. И вот уже всё вокруг другое, Яна на несколько месяцев старше. Она не хочет это вспоминать, но от неё ничего не зависит.
Яна сидит в кресле, как паша, вся обложенная плюшевыми подушками. На коленях у неё мишка, тоже плюшевый, в руке - плитка шоколада, в волосах - огромный бант.
Но самое интересное - перед ней. Таинственный ящик с трубой, таинственный дядька, нагнувшийся к ящику. Дядька и ящик покрыты чёрным, только волосатая рука видна. Но и рука эта необыкновенная - на ней кланяется и гримасничает Петрушка в красном колпачке с кисточкой.
И всё это для неё, только для неё. Яна-маленькая то замирает в восторге, то закатывается смехом, даже повизгивает от счастья.
-Чудесно. Должно получиться просто замечательно. Только знаете, мы бы ещё хотели снять её плачущей - у неё такая забавная мордаха, когда ревёт:
- К вашим услугам, дамочка, пусть плачет.
- Ну, у неё всегда глаза на мокром месте. Яна, видишь, Петрушка заболел, у него головка болит, смотри, он плачет, у-уу... Подыграйте же, товарищ фотограф!
Петрушка поник, схватился руками за голову, но рот у него по-прежнему до ушей и ясней ясного - ничего у него не болит, просто притворяется. Яна хохочет. Фотограф пожимает плечами.
-Яна, слышишь, я ухожу. Совсем. Я брошу тебя здесь одну. Вот, смотри, я ушла.
Конечно, мама тоже притворяется. Мир для трехлетней Яны справедлив и незыблем, и этот мир - мама, его основа, воплощение. Мама скрывается за дверью, но Яна даже не смотрит в её сторону. Вот и Петрушка поправился - у него больше не болит голова. Все просто играют с ней, сейчас мама вернётся. Яна хохочет. Мама возвращается.
-Ну, дамочка, будет ваш ребёнок плакать? Вы мне, между прочим, процесс задерживаете. Очередь ждёт, дамочка.
Мама идёт к Яне, лицо у неё какое-то странное, непохожее. Не надо, мама! Ну что тебе эти снимки Яны плачущей - они разойдутся по родственникам и знакомым, потеряются, останется один, тот, что валяется сейчас в коробке из-под пива вместе с другими фотографиями. Который она в детстве злобно исчертила карандашом, и на который до сих пор предпочитает не смотреть. Не делай этого, мама. Может, наши отношения сложились бы иначе, может, я выросла бы другой. Не надо...
Шлёп, шлёп... Рука Яны чуть порозовела. Мама ударила не очень больно, но она ударила всерьёз. Ударила НИ ЗА ЧТО. В первое мгновение Яна не хочет поверить в случившееся. Смотрит на руку, на маму, надеясь, что здесь какая-то ошибка, что сейчас мама всё объяснит, исправит.
Но мать отводит глаза. Мир рушится. Нестерпимо горький клубок катится откуда-то из глубины к горлу, растёт, всё больше наливаясь горечью, обидой, не даёт вздохнуть, и, наконец, Яна выталкивает его криком. Закатывается и оглашает комнату таким неслыханным рёвом, что и другие дети немедленно начинают ей вторить.
Фотограф побыстрей делает снимки, машет руками.
- Ступайте, дамочка, я вас без квитанции обслужу. Вы мне всех клиентов распугаете, дамочка, подумают, у нас тут режут.
Неистовые виноватые мамины поцелуи, ласковые слова, конфеты, посещение магазина игрушек и, наконец, взятка - рыжая кукла с вытаращенными стеклянными глазами постепенно делают своё дело. Яна успокаивается, только время от времени судорожно всхлипывает. Ещё много раз в её жизни будут рушиться миры, но Яна-маленькая этого пока не знает. Яна не знает, что в трамвае, где мама стоит, а она сидит на почётном детском месте, беззвучно рассказывая лупоглазой кукле про свою обиду, - она впервые жалуется сама себе.
* * *
Поезд влетает в тоннель, движется всё медленнее, наконец, совсем останавливается в кромешной тьме. Яна с ужасом осознаёт, что она снова в тамбуре среди дремучих дверей, где нет ничего, кроме этой тьмы, безмолвия и липкого ледяного страха. И, как тогда, девочка Яна садится на пол, дрожа и давясь беззвучными слезами, зная, что этот плен навсегда.
Они тогда только вернулись с мамой из эвакуации, в доме ещё будет кавардак, суматоха, и Яну впервые выпустят погулять во двор. Она заиграется с ребятнёй, потом как-то разом стемнеет, всех позовут по домам, двор опустеет. Яна, ещё полная до краёв неистовым восторгом бытия, какой бывает лишь в детстве, - визгом, хохотом, бегом, стуком мяча, тоже влетит с разбегу в дверь с ромбами. Дверь сзади тяжело захлопнется и...
Ошеломленная внезапной тишиной и темнотой, Яна сделает по инерции несколько шагов, ладони упрутся в стену, потом во что-то холодное, омерзительно-скользкое и мокрое. Охнув, Яна отпрыгнет, вытирая руки о пальтишко и беспомощно озираясь в надежде разглядеть дверь - ту, внутреннюю, что ведёт в коридор и на лестницу, где на втором этаже была их с мамой комната. Или хотя бы ту, уличную, в которую она только что вскочила.
Но ничего не было. Никаких дверей, вообще ничего. Ей показалось, что у неё нет больше ни глаз, ни ушей, так было темно и тихо, ни тела, которое одеревенело от страха. Ничего, кроме кромешной тьмы, тишины и липкого ледяного страха. Даже плакать она боялась, чтобы то бесконечно страшное и злобное, в плен к которому она попала, не обнаружило её присутствия. Она каким-то животным чутьём ощущала, как оно точит о стены когти, обшаривает их мохнатыми щупальцами, чтобы схватить её. Сколько она так стояла? Пять, десять, пятнадцать минут? Потом не стояла, потому что ноги уже не держали, а сидела на холодном полу, дрожа и давясь беззвучными слезами, зная, что так будет всегда.
Потом она услышит во тьме чьи-то быстрые надвигающиеся шаги, найдёт всё же силы вскочить, по мышиному пискнуть в смертной тоске, теряя сознание, и тут где-то сбоку в тишину и тьму прорвутся скрип, слабо призрачная желтизна лампочки над лестницей и - чудо! - мамин силуэт в этой желтизне, её протянутые руки, в которые с рёвом обрушится то, что осталось от Яны.
Потом она ещё очень долго будет до смерти бояться этого тёмного тамбура между двумя дверями, и стараться проскочить его как можно скорее даже днём, когда в квадратик небольшого оконца проникал свет со двора. Ну а уж вечером без взрослых - ни за что.
Мальчишки разнюхают про эту её дурь и будут забавляться, втаскивая силком в страшный плен, отчаянно визжащую и отбивающуюся. Потом она прокусит кому-то до крови руку, и её оставят в покое. Она назовет это "дремучие двери", и даже когда в тамбуре повесят лампочку и привинтят ручки на дверях, страх останется и постепенно перекочует в сны, сны-кошмары, где она умирала от тоски и страха в чёрной дремучей ловушке между двумя дверями-мирами, внешним и спасительным внутренним, откуда лестница вела домой к свету и теплу. Куда она, вырвавшись, бежала каждый раз с бешено колотящимся сердцем, чтобы упасть в протянутые мамины руки и спастись.
Постепенно мама из сна исчезнет, исчезнет и их комната. За их дверью окажется ещё один коридор, ещё двери, лабиринт дверей и коридоров, по которым она будет из последних сил удирать от гонящейся за ней тьмы. И лишь в пробуждении обретая спасение.
Иосиф Сталин. Преддверие Суда

Присутствовали:
АХ (Ангел-Хранитель). АГ(Ангел-Губитель).Фото Иосифа, не имеющее права голоса. Иоанна. Тётя Клава (билетёрша).
Чьё-то лёгкое прикосновение, и она видит странного, невесомо-плоского, будто сошедшего с черно-белой фотографии, мальчика в белой рубашке и белой панамке, в тёмных трусах и сандалиях - такая форма была у них в Артеке, в темных очках на белом прозрачном лице. От него исходит какое-то лунное призрачное сияние, Яна видит облупленную штукатурку на стенах тамбура, старый веник в углу и выброшенный букет засохших полевых цветов.
- Вставай, - сказал мальчик, подавая ей прозрачно-невесомую руку, - Он просил тебя привести.
Яна не стала спрашивать, кто такой "он", кто этот мальчик и почему круглое пятно света под ними превратилось вдруг во что-то вроде пола лифта без стен, и этот лифт, со всех сторон окруженный лишь тьмою, вдруг понёсся вверх, так что сердце в пятки ушло. Всё равно не было ничего страшнее, чем оставаться там, среди дремучих дверей.
Потом лифт-не лифт остановился внезапно, тьмы вокруг уже не было. Серебристая, будто предрассветная голубизна, не свет и не мрак. И круглая площадка под ногами, на которой стояла Яна среди сплошной предрассветной бездны. Да и самого мальчика видно не было, хотя она слышала его голос каким-то внутренним слухом.
- Не бойся, ты в Преддверии. Не вверху и не внизу. Не в прошлом и не в будущем. Ты в глубине.
- В глубине чего?
- Времени. Не исторической линии и не космического круга, а экзистенциональной точки.
Яна хотела спросить, какая глубина может быть у точки, но мальчик ответил, будто читая её мысли:
- Здесь начало того конца, которым оканчивается начало.
- Кто ты?
- Ангел - Хранитель. Сокращённо - АХ.
- Мой Ангел-Хранитель?
- Твой АХ рядом с тобой в реанимации. Он не имеет права оставить историческую временную линию, пока ты жива.
- Я жива?
- Пока ты жива, - повторил АХ. - "Он" просил привести тебя. Вот, Иосиф. Та самая девочка.
В призрачной предрассветной голубизне вдруг проступила в самодельной деревянной рамке, закачалась на неведомо куда вбитом гвозде фотография подростка с гладко зачёсанными на косой пробор волосами, нежным детским ртом и по контрасту пронзительно-жёстким взглядом куда-то мимо, вдаль, в одному ему видимую цель.
Внутренне ахнула Иоанна-взрослая. Так вот кого ей напоминал в детстве Егорка Златов!
Только у Егорки волосы были светлые.
Она невольно подобралась, как когда-то на пионерской линейке.
- Здравствуйте, товарищ Сталин.
Мальчик на фото не шевельнулся и молчал. Тёмные глаза по-прежнему напряжённо всматривались куда-то мимо, в невидимое.
- Мне сказали, что вы… Это я,. Синегина Яна. Я пришла.
Молчание.
- Не дёргайся, он всё прекрасно видит и слышит. Просто его историческое время кончилось. В отличие от твоего, любительница повторных фильмов. Иосиф лишён слова до Суда.
-Какого Суда?
- Того самого. Высшего и Последнего, который обжалованию не подлежит. Но и на Суде Иосиф лишён слова вплоть до приговора. Защищать его буду я. Верный его спутник, телохранитель и душехранитель с первых дней жизни.
- Но как же...
- Не дёргайся, его душа тебя видит и слышит. А фото - это я для тебя повесил - тебе привычнее разговаривать со зрительным образом...
- Но о чём разговаривать?
-Скажи, что будешь по-прежнему молиться за него, если вернёшься в историческое время. Между прочим, ты единственная девочка на свете, которая молится за него уже более полувека. Иосиф, ты ведь о молитвах хотел просить Иоанну - это для нас сейчас самое главное?.. Не молчи, Иосиф.
Значит, для Ага фотография не безмолвствовала! Иоанна вдруг ясно поняла, что нет, о чём-то другом, тоже очень важном, хочет и не может попросить её этот пятнадцатилетний мальчик на старинном снимке. То ли злодей всех времён и народов, то ли величайший светоч и гений, то ли просто "кавказец неотёсанный, нуль без палочки". Недоучившийся семинарист, неизвестно кем, Светом или тьмой, вознесённый на самый пик земной власти... 3а которого она действительно молилась, как научила бабка Ксения - за маму, папу и товарища Сталина. Вначале о здравии, потом об упокоении. Просто так уж сложилось.
Разве может быть неправедной молитва ребёнка, пусть и длящаяся более полувека?
Когда вождь умер, ей было шестнадцать, и она продолжала поминать Иосифа, ушедшего в вечность с концом её детства.
Нет, не о молитве, не о вечном покое себе, не об её заступничестве хотел он просить, не для того позвал. Но ничего не мог сказать без посредника АХа, лишённый слова.
- Это что ещё за свиданка противу правил? - услыхала они знакомый вкрадчивый шёпот, - Заявляю решительный протест.
Перед Иоанной возник плоский мальчик-негатив, двойник АХа, но рубашка, панамка и лицо у него были чёрные, а трусы, сандалии на тёмных ногах и очки - белые. Будто на стеклах очков налеплены две бумажки.
Фото Иосифа, снова закачавшись на вбитом неведомо куда гвозде, растаяло вместе с гвоздём.
АХ сообщил, что это АГ, Ангел-Губитель, что у них сейчас просмотр судебных материалов и свидетельских показаний, и ей здесь не место.
- Готовимся, знаешь ли, Суд может начаться в любую минуту.
Там, где только что висело фото Иосифа, появился самодельный экран из двух крахмальных простыней - точно такой висел в клубе-бараке её детства, всегда набитом битком, куда они, малышня, бегали "на протырочку" и устраивались прямо на полу перед экраном, задрав головы. Всё было, как тогда, даже настлались сами собой такие же шаткие скрипучие полы. Но за спиной почему-то оказался вполне цивильный просмотровый мосфильмовский зал, не со скамейками, а с кожаными креслами, а в первом ряду, где обычно размещалось начальство, устроились рядом АГ и АХ, негатив и позитив - точь-в-точь представители Госкино на худсовете.
- Гасите свет, пора начинать, - прошелестел АГ.
Иоанна осознала, что как только свет погаснет, она снова окажется в дремучем тамбуре, страшнее которого нет ничего на свете, и спрыгнула в панике с площадки прямо на дощатый пол перед экраном.
- Тётя Клава, почему в зале посторонние?
Невесть откуда взявшаяся в экзистенциональном времени свирепая билетерша тётя Клава из детства спешит на разгневанный голос АГа откуда-то из предрассветной вечности. Яна ползет от неё, втискивается меж рядами кресел, и в этот момент свет гаснет. Но тут же трещит, вспыхивает проектор, тот же, из детства, Яна видит краем глаза угол светящегося экрана и две пары ног в сандалиях - белых и тёмных.
- Начало, раннее детство можно промотать... Здесь всё давно исповедано, чисто. Иосиф в духовном училище, церковный хор... Стоп, вот момент существенный. Крещенское водосвятие, молебен прямо на узкой улочке возле Окопского храма, Иосиф поёт в хоре. И эта твоя гнусная проделка - бешено мчащийся с горы фаэтон прямо на певчих...
- Да, терпеть не могу церковные праздники! Если б ты не успел выхватить Иосифа буквально из-под колёс...
- Мальчика принесли домой без сознания, и рыдающая Екатерина, Кеке, у которой уже умерли трое младенцев, молила Господа оставить ей Сосо, поклявшись посвятить его Богу.
- А ты две недели вместе с ней не отходил от его постели. Екатерина читала вслух Библию. Иосиф едва понимал, и, когда дремал, ты напел его душе Первую Песнь о Главном. Это было незаконно, ты нарушил права отрока, воспользовался его болезнью, тем, что он не мог встать и убежать от твоих нудных проповедей...
ПЕСНЬ ПЕРВАЯ, НАПЕТАЯ АНГЕЛОМ-ХРАНИТЕЛЕМ БОЛЯЩЕМУ ОТРОКУ ИОСИФУ О БОГЕ И ПЕРВОМ ЧЕЛОВЕКЕ.
«Бог есть творческая животворящая Суть мироздания».
"Он один существенно живёт, не может не быть. Существо Его и естество есть сама жизнь. Всё содеянное имеет начало, так как Им приведено из небытия в бытие; и могло бы снова не быть, если бы Он так изволил. Но Создатель как был всегда - и прежде мира, так и ныне. И как прежде не мог не быть, так и не может не быть. Поэтому не только называется "Вечным", но и "вечность", не только "Живой", но и "жизнь", не только "Безначальный и Бесконечный", но и "безначальность и бесконечность"; не только "Пребывающий", но и "бытие". Мы называем Его "Сущий", то есть и был, и есть, и будет». Святитель Тихон Задонский/
« Господь есть дух, а где Дух Господень, там свобода"/2 Кор. 17, ." 3/
Дети Света сотворены Богом "по образу и подобию". Так лучи являются сынами солнца, несущими свет и тепло, то есть жизнь. Он подарил им счастье бытия. Вначале ангелам бесплотным, потом первому человеку, Адаму, и все жили в любви и единстве в Доме Отца. Пока некоторые ангелы во главе с Денницей, не захотели быть сами по себе. И Бог исполнил их волю, ибо сотворил свободными, позволил уйти из Дома во "тьму внешнюю", где нет Бога, то есть Жизни и Истины.
И сделался Денница Князем тьмы над воинством тьмы. Отцом лжи и вечной смерти.
И тогда «Сотворил Бог человека по образу Своему, мужчину и женщину сотворил их"./Быт. 1,27/
Это было как бы одно богоподобное существо, Двоица. Мужское и женское начала, спаянные любовью.
Бог и человеку даровал свободу, предоставив право выбора: послушание или непослушание Отцу. "Не ешь плодов с запретного древа, или смертию умрёшь".
Князь тьмы, ненавидящий Бога, обернувшись змеем, соблазнил человека ослушаться, просто-напросто солгав:
- Не умрёшь. Не будешь слушать Отца - сам станешь, богом, ведающим добро и зло. Свободным и всемогущим.
- Чуешь ловушку, Иосиф? Быть любимым сыном, наследником Творца и единственного источника Жизни или дерзко возомнить: "Хочу от Тебя отделиться, потому что я сам - бог".
Так вместе с непослушанием в сердце человека вошли гордость, тьма и смерть. Так он оказался на чужбине, был изгнан с неба на землю.
" В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят; ибо прах ты и в прах возвратишься"./Быт.3,19/
- Ничего себе свобода! - прошелестел со своего места АГ, - Он злой, ваш Бог.
- Да, именно так ты смущал сердце болящего отрока Иосифа, будто запамятовав, что не может противящееся Отцу пребывать в Доме Отца, не может тьма пребывать в Свете, в Котором нет тьмы. Не наказать, а спасти человека захотел Господь этим изгнанием. Ведь в раю росло Древо Жизни!
"И теперь как бы он не простёр руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно. "/Быт. 3,22/. Это об Адаме. Что может быть страшнее бессмертного зла? Вечного отлучения от Бога? Такова, Иосиф, участь падших ангелов, духов злобы поднебесной.
"И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый Диаволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним"./Отк.12,9/
Во спасение было дано человеку смертное тело, чтобы он мог сбросить его на чужбине вместе с ветхими лохмотьями грехов. Человек получил право свободно избрать за свою земную жизнь послушание или непослушание Творцу, Свет или тьму.
А такие как ты, АГ, бессмертны в своём бунте против Творца, ваша единственная отрада - вредить Замыслу.
- Протестую, Позитив, давай не отклоняться, - проворчал АГ.
- Ты первый начал, Негатив. Ладно, продолжим. Когда Адам стал смертным, мужское и женское начала в нём распались, и "Адам познал Еву, жену свою; и, она зачала, и родила Каина"./Быт. 4,1
Снова соединились две половинки, но не в небесную Двоицу, спаянное любовью целое, а в супружескую пару. Чтобы дать начало истории человечества - дроблению, размножению, смене поколений.
С точки зрения земного наблюдателя это - вечная смерть под маской вечной жизни, где каждое новое поколение вырастает на костях предыдущего, чтобы самому затем стать пищей для последующего. С точки зрения неба - вечная жизнь под маской вечной смерти, ибо Любовь и милость Божия чудом скрепляют в единый организм вечно враждующие друг с другом души своих безумных больных детей. Чтобы, когда наступит конец времён, отделить "зерно от плевел" согласно Замыслу. Свободно избравшие Свет сыны Божии послужат основой воссоздания богочеловечества. Нового Адама. Согласно Замыслу, который состоит в том, что...
Бобина в проекторе внезапно заходила ходуном, дикторский текст на полуслове прервался.
- Часть ещё не кончилась, там должно быть о Замысле, - заволновался АХ.
- Сапожники! - свистнул АГ, затопав белыми сандаликами. - Вечно ты, Позитив, на плёнке экономишь. Небось, обрыв на склейке... Кстати, чем больше ты нас будешь уверять в избранничестве Иосифа, что он чуть не с младенчества готовился к священству, тем ужаснее покажется Суду его отступничество.
- Не было никакого отступничества! - гневно топнул АХ в свою очередь ножкой в чёрном сандалике. Пол под Яной заходил ходуном, заблистали молнии. Яна в страхе зажмурилась, а когда открыла глаза, очутилась в одном из дней военного своего детства, в эвакуации.
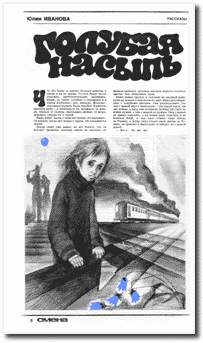
Голубая насыпь.
* * *
Она не помнила, как началась война, только остался в памяти разрытый двор и глубокая - преглубокая канава, куда надо было спускаться по ступенькам - видимо, щель бомбоубежища.
Ребята постарше играли там в какие-то свои игры, а Яну лишь однажды взяли с собой - у неё был папин карманный фонарик.
Фонарик мальчишки, конечно же, сразу отобрали, убежали куда-то, и Яна осталась одна в подземелье.
Хлюпает под ногами вода. Сандалии совсем промокли, вязнут в противно чавкающей глине. Дрожа от холода и страха, Яна-маленькая раздумывает - не лучше ли зареветь?
Но тут видит: подземное дерево. Оно растет прямо в земляной стене.
Ясно виден толстый, толще руки, ствол, голые ветви.
Некоторые выбились из стены, безжизненно свисают к воде, другие обрублены - круглые белые печати. Дерево без листьев... Чем выше, тем толще ствол.
Дерево растет вниз головой!
Яна-маленькая ошеломлена - разве можно расти вниз головой?
Иоанне-знающей нет дела до какого-то берёзового корня, она ждет отца.
Ведь именно он должен спуститься за ней и вытащить на свет Божий - это она хорошо помнит. Может, удастся, наконец, разглядеть его.
Вот он появляется в отверстии щели, вглядывается в темноту, скрипят ступени...
Проклятая темнота. Яна-маленькая нарочно отступает, прячется но, не выдержав, прыскает.
- Жанна, ты? Ну, держись, вражья сила!
"Жанна" - так он настоял её назвать в честь своей любимой Орлеанской девы. Но мама терпеть не могла иностранщины, и в свидетельстве записали русский вариант - редкое "Иоанна".
* * *
Сколько народу, и все куда-то спешат, бегут...
С чемоданами, мешками, узлами, тележками. Платформа, вагоны.
Те вагоны, из детства, со ступеньками, с оконными стеклами, со скрежетом задвигающимися.
Вагоны, в которых ездили на крышах, висели на подножках, махали руками из окон.
Яна по-прежнему на руках у отца, будто он так и вынес её из щели бомбоубежища на платформу, с которой они уезжали в эвакуацию.
Память объединила эти мгновения в одно, а между ними, наверное, несколько дней, неделя...
Отец уже в военной форме.
Сегодня он их проводит, завтра - на фронт, а через несколько месяцев в их пустую квартиру придёт похоронка.
Долго будет белеть в почтовом ящике, попадёт по ошибке к Снежиным вместо Синегиных и, уже конверт в конверте, настигнет их, наконец, в маленьком уральском посёлке.
"Вы уж простите, но мой муж не Синегин Аркадий Иванович, а Снежин Аркадий Ионович. Я на почту документы носила, они просили перед вами извиниться" - было в письме.
"Просили извиниться"...
Мама всё пересчитывает узлы.
На ней серый габардиновый пыльник и шляпка с короткими полями. В июльскую-то жару. Наверное, не влезло в чемодан.
Сейчас Яне хорошо видно её раскрасневшееся, ещё по-детски округлое лицо с прилипшими ко лбу кудряшками перманента. Бисеринки пота на верхней губе.
Маме - 27 лет, отцу - 26.
-Ну куда ты столько набрала - ну, женщины! Война через пару месяцев кончится, а ты... Куда столько мыла - слона купать?
Мыло кончится через полтора года.
Каждый кусок мама будет делить на четыре части, натирать на тёрке и заливать водой. Несколько кусков выменяют на сахар.
Они болтают о какой-то ерунде. Боты, квитанции, ключи...
Мама даже смеётся.
Через много лет отчим в гостях будет наливать в твой бокал лимонад, потому что после одной-двух рюмок ты начинаешь плакать.
И рассказывать первому попавшемуся гостю о великой неповторимой любви еврейской девочки Сони и русского парня Аркадия.
О том, как бабушка с дедушкой, тоже погибшие в войну, заперли тебя на втором этаже, и ты, комсомолка, со значком ГТО, спустишься с балкона по простыне, босиком.
И отец так и увезёт тебя босоножкой-бесприданницей на мотоцикле.
- Он в Австралии, - будешь рассказывать ты, - Попал в плен и теперь в какой-то закрытой лаборатории. Его просто не выпускают - он такой талантливый!
Вокруг обычная вокзальная суета, никаких слёз. Все и вправду верят, что война ненадолго. Неужели она так и не разглядит отца?
Яне скучно, она начинает хныкать.
Отец сажает её на узел, они с матерью прощаются.
Яне скучно, она не глядит на них.
- А у меня чего есть...
Рядом на чемодане девчонка в панамке.
Яна сразу понимает - что-то у неё в самом деле есть, что-то необыкновенное - такой уж вид у девчонки.
И с этого момента девчонкино "что-то", оказавшееся обыкновенной черепахой, превращает Яну-маленькую в одно сплошное "Дай!", не имеющее ничего общего ни с отцом, ни с эвакуацией.
- Ой какая! Дай подержать... Можно погладить? Ой, шевелится! Мама - черепаха! Живая! Папа - черепаха!
Хочу! Дай! Ну купи!..
Яну хватают, тащат в вагон, оглушенную собственным ревом, ослепшую от слёз.
Уговоры матери, её раздражённый подзатыльник, прощальные поцелуи отца, урезонивания окружающих, что "милиционер заберёт" - все ничто по сравнению с вожделенной живой коробочкой на ножках, без которой дальнейшая жизнь не имеет никакого смысла.
И никто не хочет ей помочь. Никому нет дела до её безутешного горя.
* * *
Что это были за цветы! Больше никогда и нигде я их не увижу!
То есть будет нечто похожее, приблизительное, напоминающее, но таких голубых и огромных и в таком изобилии - нет, никогда.
Железнодорожная насыпь была голубой.
Кажется - протяни руку - и коснёшься их, влажных от дождя, тёплых от солнца, прохладно-свежих от ветра, дующего откуда-то с полей.
Яна знает: когда у поля нет конца, это называется степью. Когда нет конца у пруда , это называется морем.
Поезд стоит уже давно, но все боятся, что он вот-вот тронется, поэтому никто не выходит из битком набитых, душных вагонов нарвать голубых цветов.
Так объяснила мама.
Яна лежит локтями и грудью на оконной раме, руки по локоть в паровозной саже.
Яна разговаривает с голубыми цветами.
Она рассказывает, что они с мамой едут в эвакуацию - это такой город, где нет войны.
А папу они оставили, потому что папа на войне нужен, а они с мамой не нужны.
Они с мамой не умеют стрелять, а на войне надо стрелять и не бояться бомб.
И там надо отдать свою жизнь за Родину.
А когда папа отдаст свою жизнь за Родину, он приедет в эвакуацию и заберет их с мамой домой.
- Ма-а... Ну, ма, же!..
- Отстань, не видишь - маме некогда. Вот я тебе выпачкаюсь! Я тебе поторчу на сквозняке...
Ведь не бывает же таких цветов - почему ты не смотришь?
Или я, та Яна, вижу их другими? Другими, чем ты, чем все взрослые?
Впрочем, разве тебе до цветов?
И не до меня тебе, жива я,здорова, ну и ладно.
Так уж получилось - война.
Скоро мы почти не будем видеться - из детского сада меня будет забирать квартирная хозяйка, кормить ужином - меня, сына Кольку и бабку Ксению.
Чечевичная каша, или суп из селёдочных голов, или картофельные дранки, чудо из чудес.
После ужина бабка Ксения будет мне рассказывать про своего Бога, научит непонятным, таинственным словам, которыми надо разговаривать с Богом.
Я буду выпаливать их перед сном, как пароль, а потом уже по-своему рассказывать, что случилось за день.
Богу бабки Ксении, а не тебе. Советоваться с ним, что-либо клянчить.
Ты будешь возвращаться с завода, когда я уже сплю, и уходить, когда я еще сплю.
Только ночью сквозь сон я буду чувствовать рядом твое тепло.
Даже по воскресеньям ты или в поле подшефного колхоза, или дома над кастрюлями, корытами, хозяйской зингеровской машинкой.
- Потом, Яна, потом - видишь, сколько дел у мамы. Ты уже большая, должна понимать. Иди, Яна...
Я отвыкаю от тебя.
"Вот погоди, кончится война..." Мы живём будущим.
Когда кончится война, я снова увижу папу, и мне купят мороженое, и наш поезд на обратном пути остановится у насыпи с голубыми цветами.
Будет стоять долго-долго, и мы нарвем большие-пребольшие букеты...
Перед сном я прошу Бога бабки Ксении, чтобы завтра кончилась война, и тогда всё сбудется.
Мы вернемся осенью сорок третьего - какие осенью цветы? На Казанском вокзале ты купишь мне мороженое.
Папы уже не будет.
А ты...
После работы - занятия на вечернем отделении института, ты будешь навёрстывать, навёрстывать эти годы.
Дерзкая мысль - завершить диссертацию отца. И опять я почти не буду тебя видеть.
Во имя чего? Институт ты, правда, закончишь, но аспирантура как-то сама собой отпадет, потому что выяснится, что папину тему уже кто-то где-то успешно разработал и завершил.
И ты сломаешься, будешь сидеть вечерами дома, не зная, куда себя деть.
Ты уже отвыкла от дома, я от тебя, и мы будем только мешать друг другу.
Потом спохватишься, что тебе уже за тридцать. И коли не получилось с аспирантурой и наукой, надо самоутвердиться иначе.
И кинешься искать мужа - исступлённо, как всё, что ты когда-либо делала.
В комнате нашей появятся коробочки, флакончики, отрезы, запорхают имена всяких там Леокадий и Эмилий из парикмахерской.
Соседи станут говорить, что ты прямо-таки невероятно похорошела, а в тебя и вправду будто вселился бес.
Такой худой ты не была даже в юности, а худоба тебе идет. Подведенные глаза кажутся мрачно-огромными, как у цыганки-гадалки, прекрасный открытый лоб, легкие тени на впадинах скул, ярко-вишневый мазок губ...
И вся ты - яркая, гибкая, узкая в том своем узком вишнёвом платье с вышивкой, в котором и шагу-то ступить невозможно (я, во всяком случае, не могла, когда примеряла).
А ты в нем летала, скользила, закидывала ногу на ногу, будто родилась в этом невероятно узком наряде, будто он был твоей второй кожей.
Такой ты мне запомнишься.
Девчонки будут говорить: - Какая у тебя красивая мама!
И ты в конце концов отыщешь себе мужа в том послевоенном безмужье, причем мужа вполне приличного - доброго, внимательного, непьющего вдовца, даже внешне приятного, даже работающего каким-то начальником.
Мы с ним будем решать задачки про рыболовов и пешеходов и вообще отлично поладим.
Когда ты станешь удирать от нас обоих - то к каким-то подругам, то заделаешься вдруг заядлой театралкой, то общественницей, то просто будешь задерживаться на работе, по поводу и без повода, лишь бы не домой - я буду осуждать тебя и жалеть отчима.
И только через много лет пойму, что не нужна тебе была ни аспирантура, ни кипучая деятельность, ни самый что ни на есть расхороший муж.
Что нужен тебе был только Аркадий Синегин.
Что состоять его женой, его "половиной" на земле было твоим предназначением, призванием в самом высоком смысле этого слова.
Потому что у больших ученых (отцу прочили блестящее будущее) должны быть именно такие жены. И кто знает, сколько великих человечество получило лишь благодаря этим самым "половинам".
Только много лет спустя я пойму, что его гибель явилась для тебя не потерей мужа и любимого человека - это была потеря призвания, смысла, цели жизни.
И здесь причина твоих слепых беспорядочных метаний.
От работы к работе, от мужчины к мужчине, от роли к роли.
Корабль без компаса...
Ты переиграешь десятки ролей, неудавшихся, не твоих.
И когда, наконец, вспомнишь о роли "мать" и решишь, что вот твое "то", единственное, я буду уже почти что в другом измерении, за несколько тысяч дней от голубой насыпи.
Дней без тебя.
Меня будет шокировать этот внезапный шквал родительских чувств, все твои "моя маленькая", "надень кофточку", твои поцелуи и прочие "нежности".
Ты покажешься мне смешной и нелепой, как старая дева со сборками и ужимками школьницы. Мне, Иоанне Синегиной, печатающей в городской газете свои вдохновенные опусы на морально-этическую тему.
Знатоку человеческих душ.
Твоей дочери.
И потом, еще через несколько тысяч дней, сама в голодной запоздалой тоске по твоим "моя маленькая" и "надень кофточку", мучимая стыдом за тупую чёрствость, я буду трусливо откладывать встречу с тобой, должную наконец-то соединить нас, мать и дочь.
А пока что посылать тебе в Керчь открытки к праздникам.
"Дорогая мамочка, поздравляю тебя..."
Всегда не любила и не умела писать письма.
В Керчь ты переедешь после моего замужества.
Там родился и вырос Аркадий Синегин.
Там вы познакомились на пляже.
Он подошел и сказал:
- Девушка, вы, по-моему, сгорели.
Тебе в этой фразе чудилось нечто символическое.
Телеграмма из Керчи меня не застанет - туристская поездка по Италии.
Посовещавшись, мне решат не сообщать и не расстраивать - всё равно ведь ничего не изменишь.
Я опять опоздаю к тебе. В последний раз опоздаю к тебе, мама!
- А у меня черепаха, - хвастает Яна голубым цветам. - Она домики надевает. У ней во-о сколько домиков. Пальто-домик, платье-домик...
Цветы удивленно покачиваются на неправдоподобно длинных стеблях.
- Ой, мама, мамочка, уже поехали...
Сейчас мама встанет, чтобы закрыть окно, она боится за Янины уши.
С ее колен, звякнув, упадут ножницы.
И пока она нагнется их поднять - всего пять секунд, Яна будет еще видеть летящую мимо голубизну.

Иосиф Сталин. Преддверие Суда
На фото - Екатерина, мать Иосифа.
- Не было никакого отступничества! - гневно топнул Ах в свою очередь ножкой в белом сандалике. Пол под Яной заходил ходуном, заблистали молнии. Яна в страхе зажмурилась, а когда открыла глаза, очутилась в одном из дней военного своего детства, в эвакуации.
ФЕЯ. Страничка Иоанны.
Яна сидит на полу перед шкафчиком, стаскивая с валенок слишком тесные калоши.
На шкафчике Яны наклеена лягушка - не царевна, а так, невзрачная, беспородная. Наверное, вырезана из учебника зоологии, с жёлтыми пятнами клея и проступающими буквами. Но всё равно она - волшебная, и комната с маленькими столами и стульчиками, и настоящее - не соевое - молоко на завтрак, и рыбы в аквариуме, и самодельные игрушки. Сервизы, куклы, мебель из раскрашенной глины. Бумажные кошельки, лодки, кораблики, коробочки, пилотки - из той же бумаги. Всё это чудеса, и название "Детский сад" - чудо. Сад и дети. Дети и сад.
Пальто, платок, калоши, мокрые варежки, продетые на тесёмке в рукава, - скорей освободиться, сбросить, выскользнуть, как Царевна-лягушка из кожи. Хлопает дверца шкафчика, торопливый мамин поцелуй, её запах...
Яна сидит рядом с воспитательницей - она несколько раз дралась за это место и, наконец, завоевала. Не помню, как её зовут. Она - тоже чудо. Фея Детского Сада. Тогда она представлялась Яне вполне "тётей", теперь видно - ей едва ли восемнадцать. Фея невысокого роста, круглолицая, румяная. На ней полосатая кофточка, короткая черная юбка и валенки, надрезанные в голенищах, стягивающих полные икры.
- Сложите листок вот так и так. Саша, я же показываю. Андрей, у тебя опять нет платка? Да, правильно. И у тебя правильно.
Сегодня Фее не до нас, и вчера было не до нас - торчит у неё какой-то солдат. Я - по правую руку, он - по левую. И солдат этот для неё самый главный. Мы ревнуем, и он тоже.
- Лучше б ты совсем не приходил, - грустно говорит Фея. Я ликую. Нечего приходить.
- Другим и вовсе не дали, - говорит он. - Прямо из госпиталя - в часть.
- Ну, пусть бы на недельку, - шепчет она. - Теперь вот здесь загните и оторвите. Получилось что? Квадрат. Теперь загните, чтоб уголки были внутрь. Неужели нельзя ещё хоть денёчек? Один-единственный?..
- Вот так? - встреваю я злорадно. И тут же со всех сторон: - А я? А у меня?
Солдатик смотрит на нас уже с откровенной ненавистью, я торжествую. Какой он принц для нашей Феи? Бритоголовый, лопоухий, с тонкой цыплячьей шеей, натёртой воротничком гимнастёрки.
-Теперь снова пополам, так и так. Все смотрят, я кому показываю? Ты у меня останешься сегодня, и всё. Ритки не будет, она к тётке уйдёт. Она всё знает.
- А к матери? - он смотрит куда-то в угол, - Нельзя, я ей обещался.
- И опять загните внутрь, - Яна вдруг видит с ужасом, что Фея плачет. Слеза катится к уху, где малиново вспыхивает серёжка.
- Дурная, а как совсем не вернусь? Вон мой дружок с трёхмесячным оставил. Не вдова, не жена.
- Ой, дура-ак,- тянет она и уже смеется, - Дурак и есть. Ну-ка, что у нас получилось? Андрюша, что?
- Корабль, да?
- Двухпалубный корабль, с парусами. После обеда запустим.
После мёртвого часа Яна выкрасит паруса в оранжевый цвет, и будет её чудо плавать с другими разноцветными чудесами в море-корыте.
- Солнце вышло, живей гулять!
Фея выталкивает детей за дверь, все наперегонки бегут в раздевалку. Смуглый мальчик со странным папиросным именем "Казбек" дёргает Яну за косу. Яна прощает, потому что у него есть настоящий кожаный мяч.
Мы уже оделись, как попало - Феи нет. Но мы терпеливо ждём в полутёмной раздевалке, каким-то чутьём зная, что звать её нельзя.
Наконец, дверь распахивается. Прошло не больше минуты, прошла вечность. Как медленно тянется в детстве время! Дверь настежь - на пороге моя Фея. В коридор из комнаты врывается солнце, в волосах у Феи - солнце, на блузке, на щеках, губах горит солнце. Яна хватает её руку.
Сейчас, мягко шлёпая валенками, Фея отведёт их во двор, и Яна никогда не узнает, чем закончится для неё этот день. Будут ещё обычные дни, без солдата, потом они вернутся домой, в подмосковный городок.
Скачет Фея по солнечным классикам-квадратам. Яна так не умеет - до чего ловко. Фея есть Фея.
Что было с тобой потом, моя Фея? Этого она никогда не узнает.
ПРЕДДВЕРИЕ Суда.
Присутствовали: АХ (Ангел-Хранитель и адвокат Иосифа, АГ (Ангел-Губитель и обвинитель), Иоанна, билетёрша тётя Клава.
Снова затрещал проектор в просмотровом зале, где лежала ничком Яна, зажатая рядами кресел, и видны ей были лишь две пары ног в сандаликах да край светящегося экрана. Она до смерти боится дремучих дверей и тёти Клавы.
-Лекарь подтвердил диагноз: рука сохнет, заражение крови, надежда только на сильный организм. А Екатерина надеялась лишь на Бога, и чем горячее становились руки и лоб спящего в забытьи сына, тем горячее и исступлённей она молилась:
- Я отдала его тебе, Господи, так пощади, не забирай Сосо слишком рано...
ПЕСНЬ ВТОРАЯ О ГЛАВНОМ, НАПЕТАЯ АНГЕЛОМ-ХРАНИТЕЛЕМ ТЯЖКО БОЛЯЩЕМУ ОТРОКУ ИОСИФУ.
Тайну Замысла Божия о мире и богочеловечестве нельзя понять без тайны Святой Троицы, единосущной и нераздельной. Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Трое в Одном - как это может быть? Не один наш Бог, но Един. И разгадка здесь лишь в Любви Божественной, взаимопроникающей, взаимомилующей, взаимоспасающей, какой не бывает на земле.
А ведь именно так мир был задуман "по Образу и Подобию" Святой Троицы. Всё вокруг буквально кричит о Замысле, всё назидательно для внимательного ока.
Вот солнце, к примеру. Оно даёт свет, тепло и жизнь. Они существуют в солнце нераздельно, это источники существования всего и вся. Нет жизни без тепла и света, нет света без солнечного тепла, нет тепла без солнечного света. И всё это вместе - солнце.
Всякое дерево, растение, птица, тело наше, любой живой организм свидетельствуют о Замысле... Вот корень, ствол, ветви, каждый лист - все на своем месте, все самозабвенно работают на целое, а целое - на каждого. Никто друг с другом не враждует, никто не мешает, а если надо заменить отжившее новым, молодым, смиренно уступают место... Но даже самые первые листья, которые давным-давно отпали осенью, продолжают жить в дереве, - в листьях, ветвях и стволе будущих лет. Это тот самый вечный двигатель...
- Муравейник! - прошелестел презрительно АГ. - Соцмуравейник по Достоевскому...
- Человек - не муравей, Негатив, он "по образу и подобию". Для муравья единство - способ выживания в лесу, для человека - в вечности. Цель - вот в чём главное. Земля или Небо? Не тела собирает Господь, но души бессмертные. Закон Троицы, Любовь Божественная - эликсир бессмертия в Доме Отца. Специально для тебя, сын тьмы, прочту цитату Федорова из "Философии общего дела":
"Не в конвентах, не в парламентах, не в декларациях прав человека выработан этот образец бессмертного общества. В представлениях лиц Святой Троицы "нераздельными", то есть неотчуждающимися друг от друга, не вступающими в борьбу, которая сама по себе ведёт к разрушению общества и смерти, в таком представлении союз Божественных лиц являлся неразрушимым, бессмертным. Представлением же лиц Святой Троицы "неслиянными" устранялась их смерть, потому что неслиянность означает устранение поглощения одним лицом всех прочих, которые при нём теряют свою личность, делаются его бессознательными орудиями и, наконец, вполне с ним сливаются, обращаясь вместе с ним в полное безразличие, в ничто."
- Мы, негативы, тоже бессмертны, - усмехнулся АГ. - И тоже не вступаем в борьбу друг с другом..."
-Вечно объединяющая вас ненависть к Источнику Жизни - это не бессмертие, а вечная смерть. Вечная смерть - вовсе не бессмертие.
- Протестую, - прошипел АГ.
- Протест принят, - отозвался откуда-то голос билетёрши Клавы, - Прошу адвоката не отклоняться от темы.
- Итак, изгнанное из рая человечество росло, множилось, поколения сменяли друг друга. Но Замысел Творца о богочеловечестве неотделим от замысла о каждом человеке, сотворённом "по образу и подобию". То есть богоподобным. Сыном Бога.
Богочеловечество после конца истории и Суда должно возродиться в Царствии, в Доме Отца. Богочеловечество вызревает в человечестве земном, - как бабочка в коконе, чтобы, сбросив всё непригодное, греховное, лишнее, взлететь в Небо. Плоть - земле, душа, выбравшая Свет - Свету. Душа, выбравшая тьму - тьме.
И поведано было болящему отроку Иосифу, что каждый из нас - клетка, атом этой единой богочеловеческой души, созданной, задуманной по Закону Неба, по образу Святой Троицы.
Сто тысяч, сто миллионов и более "Я", не поглощаемых друг другом, не враждующих друг с другом, одновременно и свободных, и спаянных в единое Целое свободной Любовью.
С новым миром, новой землёй и друг с другом в Доме Отца. Как это бесконечно далеко от вашего земного бытия, Иосиф! Как много предстоит изменить в себе и своей жизни, чтобы избавиться от эгоизма, вражды, жадности, самоутверждения за счёт других! Ведь каждый бесценен и нужен в этом Целом по Замыслу Творца, и как ужасно, если твоё место, замысел о тебе будут в Царствии отданы другому ввиду твоей несостоятельности!
Чудо происходит ежеминутно в любом живом организме, который бросает на исцеление все силы, потому что в одиночку ни одной клетке не выздороветь. Но если клетка безнадёжно больна, чужда, бесполезна, а чаще всего вредна организму, он вынужден её отторгнуть.
Человечество повреждено, оно неспособно жить в Доме Отца по Закону Неба. Цель земной жизни каждого - служить своему и общему выздоровлению. Соборность. Коллективное спасение.
Сейчас, Иосиф, весь организм бросился на помощь твоей больной руке. И твоя мать, и я, твой Ангел-Хранитель, помогаем тебе своей любовью, и молим Бога, Источника Жизни, исцелить тебя, чтоб ты мог исполнить Замысел.
Безумие со стороны клетки, группы клеток, каждого отдельного органа служить самому себе в ущерб Целому. Или, более того, заставлять без надобности служить себе /руке, ноге, или желудку/ другие клетки или даже само Целое, отнимая жизненно важное у других органов, в результате чего заболевает весь организм, включая саму эту взбесившуюся клетку. Заболевает и гибнет.
Это - первородный грех, сродни раку, бешеное разрастание одной части Целого за счёт жизнеспособности других частей в ущерб Целому. Такие клетки непригодны для Царствия, для исполнения Замысла - ибо если больно, дурно и голодно хотя бы одной клетке - страдают все. Такое противоречит Замыслу, ибо в Доме Отца нет страдания и тьмы.
В конце времён Господь соберет в житницу Свою души всех детей Света, когда-либо живших на земле, и воссоздаст из них богочеловечество, Нового Адама, свободно избравшего и полюбившего Небо, преодолевшего тьму. Рухнут клети внешние смертных и грешных тел... Сказано - "Царствие Божие внутри вас". Новая жизнь зреет в каждом, кто соблюдает Закон Неба, служит Небу, обращая дни наши суетные в тепло и свет. Только Тепло и Свет дают Жизнь - учит Троица. Временную и вечную..
Вопросик можно ? - прошелестел АГ, - Что же такое получается, господа? Или подчиняйся, или на свалку? Где же тут любовь?
- Когда любящий Отец зовёт чадо домой, потому что наступает вечная ночь, а тот бежит в лес, в противоположную сторону, где полно хищных зверей...
-Значит, такового следует запереть.
- Дети Божии свободны, Негатив. Есть, конечно, наёмники - служащие Господу в ожидании награды на Небе. Есть рабы - покорные Его Воле разумом и от страха. И есть сыны - полюбившие Его всем сердцем, "рожденные свыше".
- Бедные рабы и наёмники! Значит, им не на что рассчитывать? Опять обман?
- Господь милостив, сын тьмы. Даже если после Суда от кого-то останется лишь монада, пустая скорлупка безо всяких заслуг, но смиренно избравшая Бога своим Хозяином, Господь может наполнить её Своим Светом и спасти. Вспомни благоразумного разбойника на кресте...
И Ангел-Хранитель внушал тяжко болящему отроку Иосифу, что, если он станет пастырем, как обещала Небу Екатерина, он должен стремиться воспитывать именно "сынов", - горячих, самоотверженных, жертвенных служителей Делу Божию на земле - умножению жатвы Господней..
Что каждая частица будущего Богочеловечества, каждая душа рождается, призывается из небытия в определённое время, в определённом месте, с определённой сверхзадачей, на осуществление которого ей даны дары Неба - время, здоровье, таланты. Вписанный в сердце Закон Неба. И знание Замысла о тебе...
О том, что нет выше звания пастыря, "ловца человеков". С-пасти, с-пасатъ - они - прямые воины Спасителя.
- Думаешь, мальчик что-либо понял из твоих нудных проповедей, Позитив, проникся ими? Он любил верховодить мальчишками, всегда быть первым, был обидчивым, драчливым, злопамятным, лукавым...
- Скажи ещё жестокосердным, коварным, кровожадным...
- Мальчики, не ссорьтесь! - рявкнула тётя Клава из вечности, - Удалю из помещения!
-В нём никогда не было смирения и покорности, - шипел АГ, - Иосиф любил верховодить мальчишками, всегда быть первым. Его даже прозвали Кобой, что означает "Непримиримый", в честь какого-то разбойника:
- Этот Коба из книжки был защитником слабых и угнетённых, Иосиф любил читать про таких робин гудов и рассказывать о них друзьям. А те - слушали во все уши. Разве не сказано в Писании:
"Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленникам освобождение и узникам - открытые темницы". /Ис. 61, 1/
"Он будет судить бедных по правде, и дела страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит землю, и Духом уст Своих убьёт нечестивого". /Ис. 11, 4/
- В духовном училище Иосиф переходил из класса в класс по первому разряду, пел в церковном хоре, знал наизусть многие главы из Писания. Особенно был ему близок Ветхий Завет:
"Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились". /Пс. 11, 9/
"Наведи, Господи, страх на них; да знают народы, что человеки они". /Пс. 9, 21/
"Ибо нечестивый хвалится похотью души своей; корыстолюбец ублажает себя". /Пс. 9, 24/
"Подстерегает в потаённом месте, как лев в логовище; подстерегает в засаде, чтобы схватить бедного; хватает бедного, увлекая в сети свои;
Сгибается, прилегает, - и бедные падают в сильные когти его;
Говорит в сердце своём: "забыл Бог, закрыл лице Своё, не увидит никогда".
"Восстань, Господи, Боже мой, вознеси руку Твою, не забудь угнетённых". /Пс.9,30-33/
Ты видишь, ибо Ты взираешь на обиды и притеснения, чтобы воздать Твоею Рукою. Тебе предает себя бедный; сироте Ты помощник". /Пс. 9, 35/
- Иосифу нравилось представлять себя пастырем, проповедовать, пересказывая детворе любимые свои книги и главы из Библии. Сейчас будет эпизод, когда ты, Негатив, искушая его, привёл к богатому дому, откуда Екатерина забирала в стирку бельё. Иосиф ждал мать, чтобы помочь донести до дома тяжёлую корзину. С ним, как всегда, был эскорт ребятни, внимающей каждому слову.
- Тщеславие и властолюбие!
- А я говорю - ревность о Боге. Необходимое качество для будущего "ловца человеков". Он ведь рассказывал тогда про прекрасных, любимых своих героев, защищающих правду и справедливость. А ты подослал ему эту коляску с разряженной девкой и подвыпившими барчуками. Вот, мол, смотри, Иосиф, как весело и беззаботно живут люди, на которых горбатится твоя мать... И ты, молодой, сильный, смелый можешь стать таким же, и на тебя будут горбатиться другие. Это совсем не трудно такому, как ты, выбиться в люди, брось только жалкие свои проповеди для слабаков...
Они кого-то ждали у парадного. Девка была пышногрудая, смешливая, рыжеволосая. Она непрерывно что-то жевала из стоящей у ног корзины с лакомствами, поправляя съезжающую набок шляпку, ёжилась, хихикала, увёртываясь лениво от тискающих её кавалеров. Все трое были в подпитии...
Да, это было абсолютное торжество плоти над духом, наглое торжество денег, безделья и мамоны, перед которым часто пасуют всякие байки про святых и прекраснодушных героев, заступающихся за народ... Девка улыбнулась Иосифу, скорчила рожицу - чего, мол, уставился?
- А ты, Губитель, шептал: "Поклонись моему хозяину, откажись от Призвания и материнской клятвы, и получишь и это, и более того... И другие будут ишачить на тебя. Но ты, Негатив, просчитался - Иосиф ещё больше возненавидел порядок, при котором многие матери, сестры, отцы и братья должны зарабатывать на хлеб насущный, обслуживая и ублажая каких-то ничтожных лоботрясов, а то и губить свои души, как эта шлюха. Тоже чья-то дочь и сестра...
- И тогда я ещё кое-что придумал, - хихикнул АГ.
Девица снова улыбнулась уставившейся на неё голоштанной мелюзге, что-то шепнула кавалеру, тот порылся в кармане и бросил мальчишкам горсть монет. Ох, как жадно бросились те за добычей, катались в пыли, завязалась драка. В коляске веселились от души. Побледневший Иосиф молча смотрел на них, стиснув губы.
- Вот она, твоя паства, - шептал я ему, - Твои прекраснодушные слушатели, дети Божии, и все эти байки про Замысел и Истину... Вот она, истина. Сатана тут правит бал, и так будет всегда.
"Повсюду ходят нечестивые, когда ничтожные из сынов человеческих возвысились". Теперь ты знаешь всему цену. Поклонись нам, Иосиф!
- И когда со двора, с чёрного хода вышла Екатерина, сгибаясь под тяжестью бельевой корзины, Иосиф молча взял у неё ношу - удушливый запах пота, духов и блевотины, и пошёл прочь.
Ты добивался, сын тьмы, чтоб Иосиф возненавидел унизительную бедность и взалкал мамону и порок, но добился прямо противоположного - он навсегда возненавидел унижающее, порабощающее богатство, а заодно и бедность, позволяющую так себя унижать и порабощать. «Да, я буду пастырем - думал он, и поведу народ к Свету»...
"Призри на завет Твой, ибо наполнились все мрачные места земли жилищами насилия.
Да не возвратится угнетённый посрамлённым; нищий и убогий да восхвалят имя Твоё,
Когда восстал Бог на суд, чтобы спасти всех угнетённых земли". /Пс. 75, 9-10)
"Он укрощает дух князей, Он страшен для царей земных». /Пс. 75, 13/
- А теперь дадим слово свидетелям: Вот показания Д. Гогохия:
"На выпускных экзаменах Иосиф особенно отличился. Помимо аттестата с круглыми пятёрками, ему выдали похвальный лист, что для того времени являлось событием из ряда вон выходящим, потому что отец его был не духовного звания и занимался сапожным ремеслом".
"Осенью 1894 года Иосиф Джугашвили блестяще сдал приёмные экзамены в Тифлисскую духовную семинарию и был принят в пансион при ней", - свидетельствует С. Гогличидзе.
"После поступления в семинарию Сосо заметно изменился. Он стал задумчив, детские игры перестали его интересовать". /Свидетель Д. Папиташвили. /
- И тем более прискорбно следующее свидетельство, - злорадно вздохнул АГ: - "В 1899 году Сосо провёл в семинарии всего лишь несколько месяцев. Он ушёл из этого училища и перешёл целиком на нелегальную работу среди рабочих".
-Протестую, это уже совсем из другой части. А в этой ещё должен быть кусок про вампиров. Опять обрыв, что ли?
Затрещал проектор, и…

Бабка Ксеня.
* * *
Яна просыпается внезапно и садится в кровати, готовая зареветь со страху.
Она одна, в комнате тихо и душно, хоть окно и открыто. Никакой прохлады с улицы, ни звука, занавески не шелохнутся.
Что-то необычное, зловещее в этой липкой душной тишине.
И вдруг дворик за окном осветился, обозначился, но не как днем, а каким-то призрачным, зыбким и нереальным светом. Вспыхнул двор и погас.
И тут же нечто глухо зарычало в отдалении. Постепенно набирая силу, рев пронесся над домом, звякнули стекла в окне.
А мама в ночной смене.
Грозы Яна боялась и потом, и всегда, уже зная название этому "нечто" и его причину.
- Уу-у... Аа-а...- воет Яна, но от тоскливо-одинокого своего воя ей еще страшнее.
- Яничка, ты чой-то? Бежи, бежи ко мне, - слышится из-за занавески.
Бабка Ксеня больна. Болезнь у нее не как у других, что приходит и уходит, - это ее обычное всегдашнее состояние.
Она почти всегда лежит. Не стонет, не жалуется, и если б не кашель с хрипами, свистом и щелканьем, не кашель, а целый оркестр, хоть и глушит его бабка тщетно в подушку, - все бы, наверное, вообще позабыли, что в темном углу за пологом живет бабка Ксеня.
Бабкин угол - в большой комнате, она же столовая, она же комната мамы с Яной. Им принадлежит огромная кровать, шифоньер, тумбочка и картина над кроватью, изображающая зеленый пруд, зеленую луну и зеленых купающихся девушек.
- По-моему, эта штука квакает, - сказала как-то мама.
Зеленая картина входит в понятие "хорошая меблировка", и за нее им приходится доплачивать.
Зато бабка Ксеня с кашлем-оркестром считается "неудобством" и хозяйка исчисляет это неудобство примерно в стоимость картины. То есть получается так на так.
Поскуливая, Яна босиком шлепает за полог. Бабка протягивает руки, и Яна ныряет под лоскутное одеяло, прижимается к сухому горячему тельцу Ксени.
- Пронеси, Господи, - мелко крестится бабка, - Не пужай дите. Ну будя, будя, ты повторяй, как я, и все минует...
"Даждь нам днесь".
- Аж ан есь, - всхлипывая, вторит Яна.
Гроза лютует. Изображение комнаты пульсирует в беспорядочном ритме ослепительных фиолетовых вспышек.
Есть - нет, есть - нет. Рев, грохот. Кажется, дом вот-вот треснет, расколется, как яичная скорлупа.
Яна натягивает на голову одеяло, зажимает уши ладонями.
- Ну, разбушевался, - ворчит бабка на Бога. - Ну попугал, и будя. Дал бы дожжичку - все б лучше.
И огород полил бы, а то ить, сам знаешь, как поливать руками-то...
- Аж ан есь, аж ан есь, - твердит Яна, как заклинание.
Колючая раскаленная бабкина ладонь касается ее мокрых щек, глаз, и слезы мгновенно испаряются, высыхают. Будто зарываешься лицом в сено. И пахнет сеном.
- Дождь, Яничка, дожжь:
По-прежнему грохает и пульсирует комната, "нечто" за окном рычит и рвет когтями темноту, но Яна понимает, что оно уже не страшно.
"Нечто" будто поймали в клетку, отгородили стеной от мира. И стена эта - монотонный шум за окном, и внезапная прохлада, и запах. И другое "нечто" - спокойное, незыблемое...
- Огнь,Яничка с водой врозь. Бежит огонь от воды, спасается. Ишь как полосует, кабы огурчики не прибило. Сохрани огурчики, Господи ...
- Ба, а где он, Бог?
- Бог-то? На небе.
- А как же не падает?
-Поздно, будя, Яничка, грех. Ступай к себе.
-Ба, а какой Он ?
- Про то нам знать неведомо.
- А почему?
Бабка закашлялась, замахала руками.
- Ступай с Богом... ступай...
Яна пошлепала к остывшей уже кровати, с наслаждением вытянулась после тесного бабкиного ложа и зевнула.
Ветер надувал парусом мокрую занавеску, на полу у окна блестела большая лужа.
Там, во дворе, жил дождь.
Дождь шел.
Он шел по улицам струйчатыми ножками, увязая в мокрой глине, вспенивая лужи, шуршал по кустам.
Потом дождь побежал.
Он бежал все быстрее, догоняя страшное "нечто", которое удирало, глухо урча.
Все это представила себе Яна, потом попыталась представить себе бога бабки Ксени, да так и не смогла и заснула.
* * *
- Во здравие солдат наших Аввакума, Аверкия, Аврамия, Агава, - бормочет бабка Ксеня.
Она попросила отдернуть полог, чтоб было посветлей, крест-накрест повязала под подбородком чистый платочек в горошек, надела очки с треснувшим правым стеклом. В руке у нее церковный календарь.
- Во здравие Анания, Акепсия, - тоненько поет она, заглядывая в календарь.
- У вас, мамаша, все не те имена, так теперь никого не называют.
Сегодня дома сама хозяйка, и мама дома. Воскресенье. Шумит самовар.
Хозяйка раскладывает по блюдцам темные ломтики пареной свеклы.
А Яне мама выдает к чаю настоящую конфету, в обертке с бабочкой.
Если обертку расправить и сложить конвертом, получится фантик, а это уже богатство, едва ли не дороже самой конфеты.
В фантики можно играть, ими можно меняться, или менять на цветные стекла, на свистульки, на мячи на резинках - да мало ли на что можно сменять стоящий фантик!
Яна счастлива.
- А может, кто и назвал, - говорит бабка, - Может есть такой солдатик Ананий, а я его обойду. Как же, нельзя... А как называют-то?
- Ну Петр, Сергей, Владимир, Виктор...
- Аркадия помяните, - говорит мама.
Повисает над столом тишина, все смотрят на маму.
Воспользовавшись замешательством, Колька хватает с блюда горсть свекольных ломтиков и запихивает в рот.
- Ты что, Соня, думаешь все-таки живой? - почему-то шепотом спрашивает хозяйка.
- Колька свеклу таскает, - ябедничает Яна, но на нее не обращают внимания.
Тогда и Яна тянется к заветной тарелке.
- Аркадия, тетя Ксеня, - повторяет мама.
Бабка перестает кашлять. Осторожно спрашивает:
- А то, может, за упокой?
- Во здравие, - мама храбро улыбается, она не выносит, когда ее жалеют.
Хозяйский Колька снова лезет за свеклой, но на этот раз получает увесистую оплеуху и ревет. Яна великодушно отламывает ему кусок конфеты.
Во здравие воина Аркадия, - тянет бабка Ксеня.
* * *
- Ба, а ты почему такая горячая?
Бабка Ксеня, скорчившись, ловит ртом воздух. Кашель ломает ее жёлтое сухонькое тело, оно похрустывает, как осенний лист на ветру.
- Жар у меня, Яничка, - бабка по капле выжимает из пересохшего рта улыбку, - худо. Огнь, огнь во мне. Може, Бог даст, помру...
- Как помрешь?
Бабка переводит дух.
- Так уж. Успокоится Ксения навеки, во гроб ее положат, как невесту, во всем белом, цветами засыплют, и улетит душа моя на серебряных крыльях...
Сияют бабкины глаза, она счастливо смеется.
- У меня уж все, Яничка, припасено. И платье белое, и туфли, и белье чистое пошила.
- Покажи, ба...
- Выдвинь-ка, отопри сама.
Ёкает сердце. Вот он ключ от заветного сундучка, откуда извлекала бабка Ксеня пожелтевшие фотографии, клубки разноцветных ниток, пуговицы и лоскутки.
Старые письма и другие хрупкие бумаги с печатями и без печатей, отжившие бесполезные деньги, дешевенькие стеклянные сережки и бусы - чего только здесь не было!
Вся Ксенина прошлая жизнь, перемешанная наугад, как колода карт, никому не интересная, кроме самой бабки, которая перебирала, уходя, эту свою жизнь.
Отзвуки, осколки, лоскуты когда-то пошитых платьев, когда-то бывших с бабкой людей и минувших событий.
Яна была ее единственной благодарной слушательницей, ее подругой, и длинные бабкины рассказы о происхождении той или иной бумаги, вещицы, фотокарточки - не самой себе, не в пустоту, а ей, Яне, видимо явились для бабки Ксени смыслом и благодатью ее последних дней.
Лоскуты, обрывки, осколки, то, что не имеет решительно никакой ценности у разумных взрослых, влечет к себе стариков и детей.
Яна лезет в бабкину жизнь всей своей ненасытной пятерней, боясь, как бы бабка Ксеня не передумала, не отобрала ключик - ведь прежде доставалось Яне бабкино прошлое лишь скудными порциями. Причем право выбора принадлежало владелице сундучка.
Наконец-то можно завладеть им целиком!
- В марлечке оно, с самого верху... приданое-то, - сипло втягивая в грудь воздух, наставляет бабка. - Ты уж тихохонько, гляди, не сомни... Подушку подсунь мне, подушку...
Полулежа, в зыбком кольце света от коптилки, которое мечется по стенам, по лоскутному одеялу при каждом приступе кашля, бабка Ксеня раскладывает на коленях свое белое "приданое".
Любуется им, ласкает, разглаживает жаркими колючими пальцами, приглашая и Яну полюбоваться, восхититься.
Приданое. К рожденью, к свадьбе, к смерти.
Одно и то же слово, один и тот же цвет.
Урча от удовольствия и чихая от нафталина, Яна шурует в сундучке.
Глубже, глубже, уже руки по локти в сокровищах, и вот, на самом дне... Что-то круглое, гладкое, холодное... Пальцы сомкнулись, тащат. Бутылка!
Ой, да это та самая, праздничная, хозяйкина, с наклейкой, которая вдруг в праздник пропала со стола, когда все пошли плясать во двор.
Хозяйка прямо обыскалась, кричала, негодовала, подозревая всех и каждого. Кольку, гостей, маму, Яну...
А она вот где, бутылочка. Та самая. И вино в ней плещется.
Приданое, цветы, вино... Приданое пошито, цветов можно нарвать, на худой конец, бумажные есть, а вот вино нынче дефицит, и кто знает, достанут ли, когда придет пора проводить бабку Ксеню?
Может, этими соображениями руководствовалась бабка, а может, из самых эгоистичных стянула бутылку с праздничного стола, чтоб глотнуть из нее, когда особенно невмоготу? Каким-то десятым чувством Яна понимает, что спросить бабку Ксеню про бутылку неприлично. И прячет ее, где лежала.
На самое дно.
* * *
Полутемная кухня, на столе глиняная миска с томатным соусом. Чисто вымытая раскаленная плита, раскаленная хозяйка у плиты с разливной ложкой в руке. И запах, восхитительный запах этих штук, - Яна зовет их "плюхи".
Плюх, плюх - из ложки на плиту, пузырясь и растекаясь, вываливается жидкое беловатое месиво. Корчится, вспухает пузырями, твердеет. Хозяйка ножом ловко переворачивает плюхи на другой бок, а у тех уже румяные корочки, и с другой стороны будут такие же румяные...
У Яны подкашиваются коленки, слюна обволакивает язык, слезы на глаза наворачиваются, так хочется плюх.
- Да отойди ты, горе голопузое, - беззлобно ворчит хозяйка, - уйдет, а дите как хошь. Оставила картошки мерзлой! А у дитя самый рост, его питать нужно...
Говорила вот мамке - была б поумней, тоже б мучицей разжились. Вроде нация оборотистая. Так ей, вишь ли, совестно, а дите мучить не совестно?
Конечно, Матрена добрая, Матрёна угостит...
И в руку Яны попадает горячая плюха. Можно вонзить в нее зубы, хрустеть корочкой, глотать не жуя, обжигаясь...
- В соус-то обмакни, горюшко.
Соус, про соус-то она забыла, а плюха почти съедена, остался малюсенький кусочек. И только сейчас, когда обжигающая хрусткость плюхи размягчается кисло-сладкой прохладой соуса, Яна наконец-то чувствует вкус.
И на те несколько секунд, пока последняя крошка не растаяла во рту, Яна окунается во что-то забытое, довоенное.
Теплая распаренная земля, нагретые солнцем плоды с красной сочной мякотью - от их сока чуть пощипывает язык, сок течет по подбородку, пальцам...
А прямо перед ней на плите снова пузырятся, румянятся плюхи, дразнит глиняная плошка на столе.
- А я чего зна-аю, - говорит Яна. - А чего я видела-а...
Сейчас Яна предаст бабку Ксеню.
Она расскажет, что видела у нее в сундучке ту самую бутылку.
Расскажет, чтобы получить еще одну плюху, и получит ее, и обмакнет в соус, и съест, пока хозяйка будет на весь дом распекать бабку и расшвыривать тряпки из ее сундука.
В эти минуты Яна опять будет там, на распаренной солнцем грядке, среди огромных теплых плодов предвоенного лета.
И не сразу, а потом начнется плохое, непонятное, мучительное.
Яна почувствует, что не может войти к бабке Ксене, хотя ей этого никто не запрещал.
Будет недоумевать, откуда взялось это "нельзя", в которой раз подходить к бабкиному пологу и в который раз отступать.
Тяжелое постыдное наказание, неизвестно кем придуманное.
Яна будет утешать себя, что не ей, а бабке Ксене плохо из-за того, что Яна с ней больше не водится.
Что у нее, Яны, есть двор, трава, лето, фантики, цветные стеклышки, собака Тобик, и соседний двор, и свалка, где чего только не найдешь.
А бабка Ксеня лежит себе одна за пологом - выходит, бабка наказана, а не Яна.
Но когда Яна будет носиться по двору, играть с Тобиком, в цветные черепки или фантики, и чего только ни находить на свалке, она будет все время знать, что ей нельзя к бабке Ксене.
И знание это будет как болезнь, как бабкин кашель, от которого не избавиться.
* * *
Бабка Ксеня лежит на столе, торжественная и недоступная.
В белом платье, в цветах, - всё, как ей мечталось.
Морщины разгладились, румянец не как обычно неровными пятнами, а как у девушки, во всю щеку.
На причёсанных волосах белый венчик, сомкнутые губы тоже подкрашены.
-Будто невеста... Как есть спит. Красавица!.. - шепчутся вокруг бабы.
Они не расходятся, ждут, наоборот, народу всё больше, и Яна знает, чего все ждут, и сама с трепетом ждёт.
Сейчас бабка Ксеня - главная. Яна горда и счастлива их дружбой. И за бабку, что всё сбылось, как она хотела, а их размолвка, - это постыдное "нельзя" - такая мелочь по сравнению с тем, что сейчас должно произойти.
-Ма, а как же она полетит?
-Куда полетит?
-На небо, к Богу. Ведь потолок.
-Никуда она не полетит, глупышка, успокойся.
- К Богу, ты не знаешь, Он на небе, высоко, вот и не видно, - убеждает Яна.
Женщины рядом одобрительно улыбаются Яне, они явно на её стороне.
-Полетит, - повторяет Яна, - Она сама сказала.
- Перестань болтать, или живо во двор!
Угроза действует, и Яна замолкает - ведь со двора она ничего не увидит. Как же, всё-таки, будет с потолком? А может, надо открыть окно? Или дверь?
Мать зовут в соседнюю комнату, отпаивать валерьянкой хозяйку, которая "не в себе".
Тоже нечто странное - как это "не в себе"? А где?
И почему хозяйка плачет? Она ведь просила Бога поскорей забрать бабку Ксеню - Яна сама сколько раз слыхала.
Яна пробирается поближе к Кольке, который всегда всё знает.
-Коль, а почему она всё лежит да лежит?
-А чего ей ещё делать? Померла, вот и лежит, - Колька со скучающим видом растирает челюстями комочек смолистой жвачки, сплёвывает сквозь редкие, вкривь и вкось, зубы, - Сейчас отвезут на погост, будет в земле лежать.
- В какой земле?
- В обыкновенной, - Колька потопал по полу ногой в грязных подтёках. - Зароют в яму и будет лежать.
- Врёшь ты всё! - Колькины измышления до того нелепы, что смешно. - А цветы зачем?.. Платье?.. И всё такое красивое зачем?.. Ага, наврал?
- Похороны, вот и цветы. Ещё и музыка бывает, и вино будут пить. Зароют и будут пить.
- Врёшь ты всё.
Но тут мама и ещё женщина под руки выводят из соседней комнаты хозяйку.
Яна видит её лицо, опухшее, с невидящими щелками глаз, и вся цепенеет от её страшного нечеловеческого воя.
- Матушка ты моя ро-одненькая! На кого ж ты меня покинула одну-одинёшеньку! Брошусь я за тобой во сыру зе-емлю!
Бабы вокруг тоже тихонько подвывают, сморкаются, вытирают глаза краями платков.
Сейчас Яна тоже заревёт - мать называла этот её рёв "извержением" - до звона в ушах, до икоты, с невесть откуда взявшимися неиссякаемыми запасами слез, от которых мгновенно промокало всё вплоть до волос и воротников.
Заревёт не только от страха за бабку Ксеню, за хозяйку, за маму и сморкающихся бабок. Это будет рёв-протест против чудовищной нелепости разыгрываемой взрослыми сцены в её мире, где ещё несколько минут назад было всё так разумно и надёжно.
Мама уведёт её, и даже поступится своим комсомольским атеизмом:
- Конечно, полетит Ксеня на небо, с кладбища и полетит. Ночью, когда звёзды выглянут. Она к ним и полетит, они будут дорогу указывать.
И Яна успокоится.
В день похорон бабки Ксении, особенно после назидательных слов, сказанных на поминках батюшкой, что да, смерть всех заберёт с земли, и всех зароют рано или поздно на кладбище, только Бог обязательно заберёт к Себе на небо тех, кто в Него верит, а остальные вечно останутся лежать в земле, - Яна раз и навсегда сделала выбор в пользу Бога.
Да, Он всё сотворил, Он всё может, чего не может никто - остановить грозу, помочь нашим победить фашистов и даже помочь кого угодно найти в прятки.
Он - Волшебник, самый главный волшебник над всеми волшебниками.
Все "откуда?", "почему?", "когда?", "где?" и "зачем?", которые она уже начала бесконечно задавать себе и другим, упирались в Него и разрешались только в Нём.
Всегда, везде, всевидящий, всемогущий и всезнающий.
Она будет отныне каждый раз перед сном повторять Ему про себя наизусть таинственную ксенину молитву, а потом своими словами просить о счастье мамы, уже убитого отца.
Чтоб скорей кончилась война и они вернулись домой, чтобы скорей стать взрослой.
И, конечно, о товарище Сталине, который ведёт нас к победе и защитит маму от фашистов, которые убивают евреев.
Она привыкнет разговаривать с Богом, и Он будет слышать. Радоваться вместе, иногда сердиться, обижаться и прощать.
"И чтоб Тебе тоже всегда было хорошо!" - будет молиться она Богу о Боге.

Возвращение.
* * *
У неё было удивительное прекрасное детство.
Или это тоже особенность, привилегия детей войны?
У них всего было мало - хлеба, одежды, игрушек, развлечений, но именно поэтому они умели по-настоящему радоваться малому. Новому платью, перешитому из старого маминого, конфете, бутылке лимонада, рыночному бумажному мячику на резинке.
И уж как у них работала фантазия, наделяя это "малое" всеми атрибутами необходимого детству волшебства, значительности, многозначности!
Эти сказочные ёлки с самодельными флажками и клочками старого ватина на ветках, самодеятельные концерты с непременным хором /"Варяг" и "Артиллеристы, Сталин дал приказ", пляской "Яблочко" и "Светит месяц"...
C декламацией: "И улетел суровый, и стал фашистов бить, а сестры в туфлях новых пошли себе ходить"...
Сейчас смешно, а тогда... Какими замечательными казались эти стихи о суровом герое-лётчике и его мужественной сестрёнке Наде, которая, бросившись тушить "огненные бомбы" не пожалела новых туфелек. А велосипед, который в награду подарил ей вернувшийся "со славой" брат!
Это были замечательные стихи.
А новогодние подарки! Три конфеты, два печенья, один мандарин и картинка, которую надо вырезать и повесить на ёлку...Замечательные подарки.
Замечательное детство.
Их небольшой двухэтажный дом /восемь квартир, восемнадцать семей/ стоял на самой окраине городка, который тогда был скорее большим селом.
Сразу же за домом - огороды, колхозный луг и колхозная смородина, пруд и лес. Так что можно сказать, что у неё было деревенское детство, детство на лоне природы.
Но деревенского этого "лона" тоже было мало. Ничего буйного, бескрайнего, пышного, необозримого.
Редкий лесок, где она знала наизусть все деревья, овражки и поляны. Но всё же это был настоящий лес, в котором чирикали птицы, в июле попадалась земляника, а с августа - грибы.
Который был то зелёным, то золотисто-багровым, то беззащитно-прозрачным, обнажённым, то торжественно белым, в зависимости от времени года.
Правда, земляника в нём мерилась не банками, не стаканами, а соломинами, на которые ягоды нанизывались, как бусы. Грибы же - не вёдрами и корзинами, а штуками. Тот, кто находил боровик, становился героем дня.
Счастьем было увидеть неизвестный цветок на лугу, бабочку-траурницу или "Павлиний глаз", стрекозу.
Всего этого было мало, и потому особенно ценился и лес, и пруд /со своей купальней, с площадкой для ныряльщиков, со своим омутом - убежищем лягушек и пиявок/.
И спуск к пруду, служивший зимой горкой, и ребристый неровный лёд на катке, когда пруд застывал, и единственная ива с толстой верёвкой, уцепившись за которую можно было летать над водой.
Видимо, уже тогда в этом хрупком пограничном мирке чувствовалась трогательная беззащитная обречённость, и отстаивая, защищая его, дети любили и отстаивали столь необходимую человеку уверенность в незыблемости, прочности, вечности мира своего детства. Начала начал.
Так он и сохранился в её памяти, будто на том старом снимке, который Иоанна доставала из пивной картонной коробки, когда "мучилась дурью" /теперь это называют депрессией/.
Фотограф остановил мгновенье, когда семилетняя Яна растянула в дурацкой клоунской улыбке сомкнутые губы, боясь продемонстрировать вечности дырки от выпавших молочных зубов.
Но шут с ней, с этой неудачной улыбкой - главное, Яна стояла на том самом изгибе дороги, ведущей от вокзала к их дому. Откуда были видны луг и огороды, и пруд с ивой, и лесок.
Он был как на ладони, этот её мир, это начало начал. Такой знакомый, такой обманчиво-доступный...
Иоанна мысленно совершала путешествие через огороды и луг до ивы и, вцепившись в колкую, пропахшую дёгтем верёвку, пролетала над зеленоватой, местами подёрнутой ряской водой.
И так же ёкало, замирало сердце, и тело томилось, наслаждаясь и мучаясь раздвоением - наслаждаясь полётом и желая приземления, опоры.
И когда, наконец, память её неуклонно втыкалась ногами в берег, приходили сила и исцеление.
Будто у Антея, коснувшегося матери-земли.
И вот однажды, в одно из воскресений, особенно "мучаясь дурью", Иоанна, стыдясь, но утешая себя тем, что ностальгия по прошлому свойственна нынче человечеству в целом, приехала на площадь трёх вокзалов и взяла билет в детство.
Паровиков, естественно, уже не было. Электричка до её станции шла около получаса, и вообще Иоанне казалось, что она просто едет в наземном поезде метро по новому району Москвы.
Кварталы многоэтажных домов, заводы, бетонные платформы со станционными стекляшками... Участки леса проносились мимо окон быстро и редко, будто поезд въезжал на несколько секунд в зелёный тоннель.
А городок её детства стал теперь настоящим городом. Здесь ходили автобусы, такси. И, пробираясь сквозь лабиринт многоэтажных новостроек, она опять не могла отделаться от ощущения, что так и не уехала из Москвы.
Она ничего не узнавала. И уж совсем было отчаялась найти что-либо хоть отдалённо имеющее отношение к той фотографии, как вдруг поняла, что стоит в этой самой точке, где был прежде поворот дороги к дому.
Только нет впереди ни огородов, ни луга, ни леса за ними, ни, тем более, пруда с болтающейся на иве верёвкой...А есть Комбинат бытового обслуживания, перед которым толпится народ в ожидании конца обеденного перерыва, есть детский сад с ярко раскрашенными качалками и песочницами.
А дальше дома, дома...Жители которых ходят в этот Комбинат сдать в чистку костюм или починить телевизор, их дети - в этот садик или вон в ту школу. А вечерами взрослые берут этих своих детей и идут вон в тот кинотеатр, если дети до шестнадцати допускаются.
Вот что было впереди. А тропинка...
Тропинка осталась. И вела она к её дому.
Поразительно, что здесь ничего существенно не изменилось, будто этот клочок земли с её домом, с ведущей на чердак лестницей, с тремя берёзами у подъезда и даже протянутой меж берёзами бельевой верёвкой, был аккуратно вырезан из её памяти и пересажен сюда, в этот другой новый мир.
Но город отторгал, не принимал его, как нечто чужеродное, несовместимое.
Бывшее когда-то реальностью, насыщенной жизнью и красками плотью, съёжилось, обесцветилось. Оно ещё было, но умирало и рушилось на глазах.
Дом уже давно не ремонтировали. Штукатурка на стенах была вся в трещинах и подтёках, местами облупилась, и там, будто рёбра, просвечивала дранка. На крыше проступали ржавые пятна.
Грязное осеннее месиво вокруг дома составляло невыгодный контраст с чистенькими, закованными в бетон тротуарами, по которым она только что шла.
Там, где тропинка поворачивала к её дому, асфальт обрывался. Экономия. Это напоминало доску для ныряльщиков на пруду.
Когда-то её дом был предназначен стать началом нового города - двухэтажный среди одноэтажных.
Видимо, поэтому ему и удавалось до сих пор держаться в реконструкторских планах. Но город шагнул мимо эпохи двухэтажек в эпоху многоэтажную, блочную и крупнопанельную.
Её дом не был ни началом нового города, ни концом старого. Он ничего не выражал и не символизировал.
Он был сам по себе, чужаком.
Она будет стоять у края тротуара, смотреть на сидящих у подъезда старух и думать, что наверняка среди них окажутся знакомые, бывшие когда-то не старухами.
И какой это будет ужас - сейчас подойти к ним. Да ещё по грязи, да ещё в сапогах-чулках, - последний писк, которые она неизвестно зачем напялила...
Старухи будут тоже смотреть на неё и перешёптываться.
- Девушка, вы что-нибудь ищете?
Она вздрогнет и только тут почувствует, насколько натянуты нервы - голос за спиной обрушится на неё, как лавина.
А парень будет улыбаться - в нейлоновой куртке на молнии, в расклешенных брюках и с волосами до плеч. Он будет из этого нового города, которым он гордится и знает назубок, где какой корпус, где детсад, где школа и комбинат бытового обслуживания. Так же, как она когда-то знала всё о своём том городе.
Но он принял её за свою - на ней тоже будут расклешенные брюки, прикрывающие лаковые сапожки-чулки. Да ещё кожаный пиджак в талию, и кожаный берет с большим козырьком, и сумка через плечо.
Девушка!..
Она будет в упор смотреть на него и будет в тот миг сама по себе, не со старухами и не с ним, как и её дом.
Но парень так и не заметит своей ошибки, видимо, она всё же лучше сохранилась, чем дом. Он одобрительно оглядит её пиджак в талию, берет с козырьком и сумку через плечо, горя желанием рассказать и показать, где какой корпус.
И тогда она малодушно повернётся спиной к дому и старухам и, ужасаясь сама себе, спросит, как пройти на вокзал.
Она вдруг осознает, что не пошла на его похороны, потому что он вовсе не умер, её дом.
Он сам удрал с этих похорон и сейчас уезжал вместе с ней, живой и невредимый.
Открытый семи ветрам, высокий - до самых облаков, в празднично-дерзком яркорозовом наряде.
С огородами, лугом и лесом, с нашим прудом, с ивой на берегу и шершавой верёвкой. Уцепившись за которую, можно птицей взмыть над водой в мучительно-сладкой противоречивой жажде полёта и приземления.
Он ждёт её.
Она бежит к дому по размытой тропинке, и Толька Лучкин в голубом дамском пальто катит ей навстречу свой обруч.
* * *
Мама ведёт Яну по тропинке к их дому - от станции минут двадцать ходьбы.
Мимо бараков и деревянных домишек с палисадниками, с гераньками на подоконниках.
Мальчишка в голубом дамском пальто, подпоясанном ремнем, в солдатских сапогах, катит по дороге ржавый обруч, шмыгая мокрым носом.
Это Толик Лучкин, сын продавщицы Нади. Он будет катать обруч до шестого класса, и еле ползти на тройках, и тонуть в соплях. И тётя Надя будет рыдать над весами, поливая печенье и пряники горячим солёным дождём слез по поводу нерадивого Толика.
А потом она пошлёт Толика на лето в Крым, в санаторий - лечить хронический насморк, и там случится с ним чудо. Он не только излечится от соплей, но вернётся вдруг таким красавцем, что ни в сказке сказать, ни пером описать.
Вроде бы и Толик, и не Толик.
И все девчонки в школе будут по нему помирать, а Яна даже посвятит Толику свои первые в жизни стихи, где будут такие строчки:
Но когда ты в ноябрьском парке
Грустно бродишь, меня ожидая,
Первый снег вдруг становится жаркой
Тополиной метелицей мая.
Это будет враньём, поэтическим вымыслом.
Толик никогда не поджидал в парке ни Яну, ни какую-либо другую девчонку. Ни в мае, ни, тем более, в ноябре.
Толик Лучкин теперь просиживал всё своё свободное время в Павильоне Тихих Игр, где и в мае, и в ноябре, и даже в январе /павильон не отапливался,/ собирались любители шахмат. В Ялтинском санатории Толик не только излечил насморк и стал писаным красавцем - он научился играть в шахматы.
Потом Толик получит разряд и окончательно помешается на шахматах - будет ездить на соревнования, олимпиады, расти и совершенствоваться. Про него начнут писать в газетах. И когда через много лет Яна случайно встретится с ним, он будет уже знаменитостью, международным гроссмейстером.
Уставший от славы и от солнца / по капризу судьбы встретятся они как раз на пляже в Ялте/, облысевший и опять потерявший свою чудесную красоту, Толик будет лениво просматривать "Литературку", отбиваясь от жужжащих вокруг "любителей".
На нём будут чёрные сатиновые трусы и клетчатый носовой платок на голове с торчащими рожками завязанными уголками.
Рядом дебелая матрона-жена будет вязать ему свитер, а Толик - покорно подставлять голую спину для примерки.
- Плавки б мужику купила, клушка! - проворчит соседка Яны по номеру, - И кепочку нормальную... Везёт этим клухам! Небось барахло вагонами тащит из-за бугра. И такой мужик интересный!
А Яна будет смотреть на Толика и видеть, как он катит по улице обруч, шмыгая носом. Как сквозь его замёрзшие оттопыренные уши розово просвечивает солнце, как ревёт за прилавком тётя Надя.
И как она, Яна, и ещё две девчонки, коченея от холода, прильнув к замёрзшему окну "Павильона Тихих Игр", любуются чудесной красотой Тольки Лучкина, разыгрывающего очередной дебют.
Всё это вспомнит Иоанна спустя много лет на Ялтинском пляже. И почему-то раздумает подходить к Толику, а отправится с соседкой по номеру в парикмахерскую делать маникюр.
И почему-то мысль, что эта матрона со спицами - невестка их тёти Нади - будет особенно нестерпимой.
А потом она будет, встречая в газетах его "шахматные прогнозы", представлять себе его голую спину с нашлёпкой недовязанного свитера.
* * *
Мальчишка обдаёт их грязью и удирает, путаясь в полах голубого пальто и гремя обручем. Мама даже не оборачивается.
В руках по чемоданищу, за спиной - рюкзак, а она летит, будто крылья в руках, крылья за спиной. На щеках - два жарких пятна-огонька.
Белый призрак отцовского письма в нашем почтовом ящике манит её, подхватывает. И она бежит за этим призраком, не разбирая дороги, как Толик за своим обручем.
- Дурак! - кричит Яна ещё незнакомому Тольке Лучкину. И спешит за мамой.
Мимо длинного одноэтажного барака с большими окнами - здесь она проучится семь лет. Мимо тёти Надиного магазина, за которым прячется домик, где живёт её Люська. Ужасная, вся от бурых косм до грязных пяток со знаком минус, запретная и обожаемая её Люська.
В Люськином дворе сушатся пелёнки - братишкины.
Через три года они с Люськой возьмут его катать на самодельном плоту и едва не утопят в пруду. Потом он поспорит с Яной на тысячу рублей, что никогда не женится. Потом поступит в Суворовское.
А потом, лет через двадцать, судьбе будет угодно, чтоб в один день подошла у них очередь на "Жигули".
И у Яны не будет сомнений, что коренастый майор с портфелем - люськин брат Витька /у Витьки под правым глазом родимое пятно с пятак/.
И не будет сомнений, что нервная вертлявая дама - "Только вишневый, слышь, вишнёвый, лучше уж завтра придём!.." - его законная супруга. А значит, тысячу рублей сейчас самое время с него получить.
Иоанна будет великодушна и просто спросит у Витьки про Люську. Он ответит, что Люська второй раз замужем, кажется, удачно. Что у неё дочка, и что работает она в КБ на заводе.
Люська - чертёжница! Всё равно что представить себе бешено тарахтящую иглу швейной машинки за вытаскиванием занозы из пальца.
Окажется, что живёт теперь Люська в десяти минутах ходьбы от неё, и Иоанна запишет номер её телефона.
Иоанне достанется серый автомобиль, и Витьке серый, и остальной очереди. Им объяснят, что вся партия - исключительно "серая мышь".
Люське она так и не позвонит.
Но всё это будет потом...
Поворот к дому.
Над огородами стелется дымок - жгут ботву от убранной картошки. За огородами - пруд, ива с поржавевшей осенней листвой, полоска луга.
Дальше, насколько хватает глаз - лес.
Направо - их дом. Они идут по тропинке, выдирая ноги из хлюпающей грязи.
Какой он красивый, их дом! Высокий, до неба, открытый семи ветрам, свежевыкрашенный самой немыслимо яркой розовой краской.
Потому что до смерти надоели маскировки и затемнения, и не надо бояться бомбёжек.
Скоро жильцы вернутся - с фронта, из эвакуации, и дом встретит их в этом дерзком, ошеломляющем, экзотическом и праздничном наряде.
Они расселятся по квартирам, пахнущим масляной краской, и всё у них будет. Работа и отпуска, любовь и ссоры, болезни и выздоровления, падения и взлёты...
Будут умирать старики и рождаться дети.
Дети будут лежать в колясках под окнами под присмотром всё тех же старушек, потом играть в песочнице под тремя берёзами. Потом им разрешат бегать за огороды к пруду, потом пойдут в школу...
Будет - было...
Она вернулась к тебе, старый дом. Из прошлого и из будущего.
Дом ждал её. И ждал тех, кто вернётся из прошлого в прошлое.
И тех, кто не вернётся никогда.

Страна рабов, страна господ...
Рисунок. Здесь прошло детство Иосифа...
* * *
Присутствовали: АХ(Ангел-Хранитель), АГ(Ангел-Губитель), Иоанна и билетёрша тётя Клава.
А также свидетели:
Помощник инспектора С.Мураховский.
Инспектор Семинарии иеромонах Гермоген.
Писатель Радищев Александр.
Хомяков Алексей (религиозный философ, поэт, публицист)
Пушкин Александр (поэт и писатель).
Лермонтов Михаил (поэт и писатель).
Никитенко (автор "Дневника", 40-е годы 19 века).
Барыкова, поэтесса - (середина 19 века).
Николай Некрасов (поэт и публицист).
Толстой Лев (писатель и публицист)
Трещит проектор. Яна барахтается на полу меж кресел просмотрового зала, и тётя Клава из вечности грозно свистит в милицейский свисток.
Яна замирает в страхе, в щеку упёрлась холодная ножка кресла, но шевельнуться нельзя. Перед глазами - край светящегося экрана-простыни и две пары сандаликов.
Плёнку склеили. АХ повествует о третьей тяжкой болезни отрока Иосифа - оспе, и снова слезно молится Всевышнему Екатерина, и вновь молитвы услышаны, смерть отступает. Кто-то приносит выздоравливающему потрёпанную книжицу Толстого, только не Льва, а совсем другого, про упырей, вурдалаков и вампиров, что, впрочем, одно и то же
- Все они вампиры, - вдруг пришёл к выводу Иосиф, - Все богачи. Они живут за счёт народного труда и пьют у него кровь. И ничего не боятся, потому что весь мир на стороне богатых. Даже церковь.
- Вот это правильно! - оживился АГ. Но АХ замахал ручками:
- Что ты говоришь, Иосиф? Разве не осуждает Писание каждой строчкой своей служение мамоне, богатству? Особенно неправедно нажитому, за счёт других. Вспомни - богач лишь за то в ад попал, что пировал, когда у дома его сидел нищий Лазарь и страдал...
-Я не о Писании, я о церкви. Как начнут молиться о царе, о родне, слугах его, обо всех богатеньких, что кровь пьют... А за бедных кто заступится? У них и денег-то нет на поминание! Эти кровососы даже Бога не боятся, их убивать надо.
- Браво, как анархисты! - захлопал в ладоши АГ. - Вот это по-нашему!
- Опомнись, Иосиф, нам же сказано: "Не убий!" Нет никаких вампиров. А потом, кроме осинового кола, они пуще всего боятся Света...
- Где его взять, Свет-то, коль кругом одна тьма - прошелестел АГ, - Коли весь мир во зле лежит?
* * *
ОПРОС СВИДЕТЕЛЕЙ:
Помощник инспектора С. Мураховский, инспектор семинарии Иеромонах Гермоген:
"Джугашвили, оказалось, имеет абонементный лист из "Дешёвой библиотеки", книгами из которой он пользуется. Сегодня я конфисковал у него соч. В. Гюго "Труженики моря", где нашёл и названный лист".
" Наказать продолжительным карцером - мною был уже предупреждён по поводу посторонней книги- "93г. В.Гюго".
"Звери алчные, пиявицы ненасытные! Что мы крестьянину оставляем? То, чего отнять не можем. Воздух. Да, один воздух!"
Свидетель Радищев.
"Ничего доброго, ничего достойного уважения или подражания не было в России. Везде и всегда были безграмотность, неправосудие, разбой, крамолы, личности угнетение, бедность, неустройство, непросвещение и разврат. Взгляд не останавливается ни на одной светлой минуте в жизни народной, ни на одной эпохе утешительной".
Свидетель Хомяков.
"Чудище обло, огромно, озорно, стозевно и лаяй".
/Свидетель Радищев./
"И горд и наг пришёл Разврат,
И перед ним сердца застыли,
За власть Отечество забыли,
За злато продал брата брат.
Рекли безумцы: нет Свободы,
И им поверили народы.
И безразлично, в их речах,
Добро и зло - всё стало тенью -
Всё было предано забвенью,
Как ветру предан дольний прах.
/Свидетель Пушкин/
Здесь барство дикое, без чувства, без закона,
Присвоило себе насильственной лозой
И труд, и собственность, и время земледельца,
Склонясь на чуждый плуг, покорствуя бичам,
Здесь рабство тощее влачится по браздам
Неумолимого владельца.
Здесь тягостный ярем до гроба все влекут,
Надежд и склонностей в душе питать не смея,
Здесь девы юные цветут
Для прихоти бесчувственной злодея.
/Свидетель Пушкин/
"Горе помышляющим беззаконие и на ложах своих придумывающих злодеяния, которые совершают утром на рассвете, потому что есть в руке их сила!
Пожелают полей, и берут их силою, домов - и отнимают их; обирают человека и его дом, мужа и его наследие».
/Мих,2-3)
Самовластительный злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоём челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрёк ты Богу на земле.
/Свидетель Пушкин/
"Везде насилия и насилия, стенания и ограничения, - нигде простора бедному русскому духу. Когда же этому конец? Поймут ли, оценят ли грядущие люди весь ужас, всю трагическую сторону нашего существования?"
/Свидетель Никитенко, Дневник, 40-е годы 19в)
Вы, жадною толпой стоящие у трона.
Свободы, гения и славы палачи!
Таитесь вы под сению закона,
Пред вами суд и правда - всё молчи?
Но есть, есть Божий суд, наперсники разврата
Есть грозный Судия - Он ждёт
Он недоступен звону злата.
И мысли, и дела Он знает наперёд.
/Свидетель Лермонтов)
"Проповедник кнута, апостол невежества, поборник мракобесия, панегирист татарских нравов - что вы делаете?"
"Что вы подобное учение опираете на православную церковь, это я ещё понимаю - она всегда была опорою кнута и угодницей деспотизма: но Христа-то зачем вы применили тут?..
Он первый возвестил людям учение свободы, равенства и братства и мученичеством запечатлел, утвердил истину своего учения".
"Если бы действительно преисполнились истиною Христовою, а не диаволова учения - совсем не то написали бы в вашей новой книге.
Вы сказали бы помещику, что так как его крестьяне - его братья во Христе, а как брат, не может быть рабом своего брата, то он должен или дать им свободу, или хоть, по крайней мере, пользоваться их трудами как можно выгоднее для них, сознав себя, в глубине своей совести, в ложном положении в отношении к ним".
/Свидетель Белинский. « Письмо к Гоголю»/.
"Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так, а кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою".
/Мф. 20, 25-26/
"Князья твои законопреступники и сообщники воров, все они любят подарки и гонятся за мздою; не защищают сирот, и дело вдовы не доходит до них".
/Ис. 1, 23/
«Вот пост, который Я избрал: сними оковы неправды, разреши узы ярма, и угнетённых отпусти на свободу, и расторгните всякие узы ".
/Ис. 58/
Вихорь злобы и бешенства носится
Над тобою, страна безответная,
Всё живое, всё доброе косится...
Слышно только, о ночь безрассветная,
Среди мрака, тобою разлитого,
Как враги, торжествуя, скликаются,
Как на труп великана убитого!
Кровожадные птицы слетаются,
Ядовитые гады сползаются!
Дни идут... всё так же воздух душен, Дряхлый мир - на роковом пути.
Человек - до ужаса бездушен, Слабому спасенья не найти!
(Свидетель Некрасов)
Бывают времена постыдного разврата,
победы дерзкой зла над правдой и добром.
Всё чистое молчит, как будто бы объято
тупым тяжёлым сном.
Повсюду торжество жрецов тельца златого,
ликуют баловни бессмысленной судьбы,
Ликуют, образа лишённые людского
клейменые рабы.
Жизнь стала оргией. В душонках низких, грязных
чувств человеческих ничто не шевелит.
Пируют, пляшут, пьют... Всё пошло, безобразно.
А совесть крепко спит..."
/Свидетель Барыкова/
1847г.
"А вы ненавидите доброе и любите злое; сдираете с них кожу их, а кости их ломаете и дробите как бы в горшок, и плоть их - как бы в котёл. И будут они взывать к Господу, но Он не услышит от них на то время, как они злодействуют."
/Мих. 3, 2-4/
От ликующих, праздно болтающих, обагряющих руки в крови,
Уведи меня в стан погибающих за великое дело любви!
Где вы - певцы любви, свободы, мира,
И доблести?.. Век "крови и меча"!
На трон земли ты посадил банкира,
Провозгласил героем палача...
Толпа гласит: "Певцы не нужны веку!"
И нет певцов... замолкло божество...
О, кто ж теперь напомнит человеку
Высокое призвание его?
/Свидетель Некрасов).
" Стоит только оглянуться вокруг себя, чтобы ужаснуться перед той заразой, которую, не говоря уже о фабриках и заводах, служащих нашей же роскоши, мы прямо, непосредственно своей роскошной жизнью в городе разносим между теми самыми людьми, которым мы потом хотим помогать".
/Свидетель Лев Толстой/.
И далее он же:
"Я весь расслабленный, ни на что не годный паразит, который может только существовать при самых исключительных условиях, который может существовать только тогда, когда тысячи людей будут трудиться на поддержание этой никому не нужной жизни".
" Каким образом может человек, считающий себя - не говорю уже христианином, не говорю образованным или гуманным человеком, но просто человек, не лишённый совершенно рассудка и совести, жить так, чтобы, не принимая участия в борьбе за жизнь всего человечества, только поглощать труды борющихся за жизнь людей и своими требованиями увеличивать труд борющихся и число гибнущих в этой борьбе?
А такими людьми полон наш так называемый христианский и образованный мир.
Мало того, что такими людьми полон наш мир, - идеал людей нашего христианского образованного мира есть приобретение наибольшего состояния, т. е. возможности освобождения себя от борьбы за жизнь и наибольшего пользования трудом гибнущих в этой борьбе братьев".
"Как ни стараемся мы скрыть от себя простую, самую очевидную опасность истощения терпения тех людей, которых мы душим, как ни стараемся мы противодействовать этой опасности всякими обманами, насилиями, задабриваниями, опасность эта растёт с каждым днём, с каждым часом и давно уже угрожает нам.
А теперь назрела так, что мы чуть держимся в своей лодочке над бушующим уже и заливающим нас морем, которое вот-вот гневно поглотит и пожрёт нас.
Рабочая революция с ужасом разрушений и убийств не только грозит нам, но мы на ней живём уже лет 30 и только пока, кое-как разными хитростями на время отсрочиваем её взрыв...
Давящие народ классы, кроме царя, не имеют теперь в глазах нашего народа никакого оправдания; они держатся все в своём положении только насилием, хитростью и оппортунизмом, т.е. ловкостью.
Но ненависть в худших представителях народа и презрение к нам в лучших растут с каждым годом".
"Собственность в наше время есть и источник страданий людей, имеющих или лишенных её, и опасности за столкновение между имеющими избыток её и лишёнными её.
Банкиры, торговцы, фабриканты, землевладельцы трудятся, хитрят, мучаются и мучают из-за собственности; чиновники, ремесленники, землевладельцы бьются, обманывают, угнетают, страдают из-за собственности;
Суды, полиция охраняют собственность.
Собственность есть корень зла; распределением, обеспечением собственности занят почти весь мир".
/Лев Толстой/.
Средь мира дольнего для сердца вольного есть два пути.
Одна просторная - дорога торная, страстей раба,
По ней громадная, к соблазну жадная идёт толпа.
О жизни искренней, о цели выспренной там мысль смешна.
Кипит там вечная, бесчеловечная вражда-война.
За блага бренные... Там души пленные полны греха.
На вид блестящая, там жизнь мертвящая к добру глуха.
Другая тесная, дорога честная, по ней идут
Лишь души сильные, любвеобильные, на бой, на труд.
За обойдённого, за угнетённого стань в их ряды.
Иди к униженным, иди к обиженным - там нужен ты...
/Свидетель Некрасов/.
"Входите тесными вратами; потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими;
Потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их".
/Мф. 7, 13-14/.
- Как говорится, комментарии излишни, - воскликнул АХ, - Свидетельствуют лучшие люди России. Можно сказать, её честь и совесть..
- Протестую, - прошипел АГ, - Лев Толстой отлучён от церкви...
- Он отлучён за выступления против церковных догматов и таинств, а не за социальную проповедь.
Кстати, к началу прошлого века произошёл раскол.
Духовные течения делались всё более равнодушными к социальной теме, а социальные - к духовным. Что тоже явилось одной из причин революции.
Вот что писал опальный граф:
« Всё можно простить, но не извращение тех высших истин, до которых с таким трудом дошло человечество».
"Жизнь наша господская до того безобразна, что мы не можем радоваться даже рождению наших детей. Рождаются не слуги людям, а враги их, дармоеды. Все вероятия, что они будут такими".
" Мы, богатые классы, разоряем рабочих, держим их в грубом непрестанном труде, пользуясь досугом и роскошью.
Мы не даём им, задавленным трудом, возможности произвести духовный цвет и плод жизни: ни поэзии, ни науки, ни религии. Мы всё это берёмся давать им и даём ложную поэзию...
Какой ужасный грех. Если бы только мы не высасывали их до дна, они бы проявили и поэзию, и науку, и учение о жизни".
- Что, кстати, успешно доказало государство Иосифа. Но об этом - в следующей части. А неизбежность революции предсказана самим Господом:
"Горе городу нечистому и осквернённому, притеснителю! Не слушает голоса, не принимает наставления, на Господа не уповает, к Богу своему не приближается;
Князья его посреди него - рыкающие львы, судьи его - вечерние волки, хищники, не оставляющие до утра ни одной кости.
Пророки его - люди легкомысленные, вероломные, священники его оскверняют святыню, попирают закон.
Горе тому, кто без меры обогащает себя не своим - надолго ли? И обременяет себя залогами.
НЕ ВОССТАНУТ ЛИ ВНЕЗАПНО ТЕ, КОТОРЫЕ БУДУТ ТЕРЗАТЬ ТЕБЯ, И НЕ ПОДНИМУТСЯ ЛИ ПРОТИВ ТЕБЯ ГРАБИТЕЛИ, - И ТЫ ДОСТАНЕШЬСЯ ИМ НА РАСХИЩЕНИЕ?"
- Что ты, Позитив, собственно говоря, пытаешься доказать? Что отступничество обвиняемого...
- Было не отступничеством, а поиском Истины среди моря лжи.
Ибо понятие "Святая Русь" в девятнадцатом - начале двадцатого веков вовсе не соответствовало действительности по многочисленным свидетельствам её лучших представителей.
А отец лжи - твой хозяин, Негатив. Назревал бунт не только против социальной несправедливости, но и чего-то несравненно более важного.
Вспомни формулу спасения в главе о Страшном Суде: накорми голодного, одень разутого, дай крышу над головой бездомному, утешь и ободри страждущего...
И ещё - "Сказал также Христос ученикам Своим: невозможно не придти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят; лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтоб он соблазнил одного из малых сих".
/Лк. 17,1-2/
Не являлось ли несоответствие названия и сути великого православного государства соблазном для "малых сих", то есть подданных, когда государственная идеология утверждала одно, а "вписанный в сердце Закон", то есть совесть - другое?
- Государство не обязано никого спасать. Я, разумеется, про души.
- Понимаю, не маленький. Тогда смени вывеску, не вводи в заблуждение.
"Горе вам, книжники, лицемеры, фарисеи, что затворяете Царство Небесное человекам; ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете.
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь: за то примете тем большее осуждение.
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного; и когда это случится, делаете его сыном геенны, вдвое худшим вас".
"Горе вам, вожди слепые, которые говорите: "если кто поклянётся храмом, то ничего; а если кто поклянётся золотом храма, то повинен".
Безумные и слепые! что больше: золото или храм, освящающий золото?
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем как внутри они полны хищения и неправды.
Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты; змии, порождения ехиднины! как убежите вы от осуждения в геенну?"
/Мф. 23, 13-17, 25, 27, З3/.
"И от всякого .кому много дано, много и потребуется; и кому много вверено, с того больше взыщут,
ОГОНЬ ПРИШЕЛ Я НИЗВЕСТЬ НА ЗЕМЛЮ И КАК ЖЕЛАЛ БЫ, ЧТОБЫ ОН УЖЕ ВОЗГОРЕЛСЯ!"
(ЛК 12 48-49).
- Ну, ты меня достал своими цитатами!
- Терпи, бес. Тогда поймёшь, что именно Писание, а не всякие безбожные манифесты привели нашего подсудимого в революцию.
В заключение ещё стихи малоизвестного поэта.
Попробуй угадать, чьи.
Шёл он от дома к дому,
В двери чужие стучал.
Под старый дубовый пандури
Нехитрый мотив звучал.
В напеве его и в песне,
Как солнечный луч, чиста,
Жила великая правда -
Божественная мечта.
Сердца, превращённые в камень,
Будил одинокий напев.
Дремавший в потёмках пламень
Взметался выше дерев.
Но люди, забывшие Бога,
Хранящие в сердце тьму,
Вместо вина отраву
Налили в чашу ему.
Сказали ему: "Будь проклят!
Чашу испей до дна
И песня твоя чужда нам,
И правда твоя не нужна!"
- Знаю я эти стихи, - проворчал АГ, - газета "Иверия", первая страница, 1895 год, под псевдонимом Сосело /Иосиф/. Не Пастернак. Хоть и вошёл в хрестоматию.
- Но согласись, что-то непохож наш подсудимый на социалиста - завистника, жаждущего перераспределения собственности в свою пользу...
И на материалиста-безбожника не похож! Это скорее правдоискатель, романтик...
- Ну, немного погодя у самого Иосифа таких правдоискателей-романтиков будет полный примус, - хмыкнул АГ, - А в результате такое "мурло мещанина" выползет...
При этих словах вдруг действительно выкатилось из-за кресел и закачалось над головой Яны нечто бритоголовое, в наушниках и со жвачкой.
Одним словом, "мурло".
И прежде чем она успела испугаться, оказавшись внезапно в замкнутом пространстве "дремучих дверей" с разбитой или вывинченной кем-то дефицитной лампочкой, без единого окошка или щели, мама со своими чемоданами и рюкзаком выталкивает ее из тьмы на лестницу и бежит наверх за белеющим в ящике призраком никогда не написанного отцовского письма.

Билет в детство.
* * *
Они возвращались из эвакуации.
Картинки памяти хаотично накладываются одна на одну, наверное, так оно и было в спешке, это "Домой!" с того внезапного маминого решения, когда едва был дозволен въезд в Москву, и мама сразу же стала собираться, не слушая ничьих уговоров, что, мол, лучше подождать, хотя бы из-за ребёнка.
Безрассудная фанатичная уверенность - там, в подмосковном городке, в нашем доме, в нашем почтовом ящике на втором этаже её ждёт письмо от отца.
Это Иоанна поймёт потом.
Летающие над чемоданами мамины руки, летящие туда как попало вещи - она утрамбовывает их, вминает, что-то трещит, ломается.
Яна с детсадовским мешком для калош, тоже беспорядочно набитым фантиками, черепками и лоскутами /наследство бабки Ксении/, смотрит, как пустеет, обезличивается их угол.
Как за непривычно голым, без занавесок, окном, Колька с хозяйкой пилят дрова, и идёт во двор похвастать, что они едут домой, что она опять увидит голубую насыпь, и их дом, и отца.
И ей купят мороженое...
Но не во двор она выходит, а на палубу, где полно баб с корзинами и мешками, с цепляющимися за подол детьми, потому что руки у баб заняты, и тоже держится за мамин подол, пока та с чемоданами продвигается к выходу.
Берег всё ближе. Берег-гора, берег-город. Город на горе.
Яна собирается спросить маму, почему дома не скатываются с горы, но уже сидит на чемодане на платформе. Вокруг снова бабы с цепляющейся за подол ребятнёй, а мамы нет, она ушла "хлопотать".
Для Яны это непонятное слово зрительно представляется чем-то вроде игры в ладошки. Хлопать, лопотать, перехлопываться.
А мамы нет и нет, начинает накрапывать дождик. То ли Яна хлюпает, то ли капли дождя ползут по щекам.
Потом они в теплушке, вагон отчаянно скрипит, качается. Жарко, душно, и те же бабы с ребятней, и дождь по вагонному окну, ничего, кроме дождя, как ни старается Яна что-то разглядеть за окном.
- Какие ещё цветы? Осень.
Говорит, а сама тоже смотрит в окно. То верит в помятый треугольник в нашем почтовом ящике, как Яна в синие цветы, - тогда её взгляд торопит, летит впереди поезда, - то не верит - и взгляд в тоске остаётся где-то на удаляющемся стыке рельсов.
Но потом, опять ожив, опомнившись, летит вслед за поездом, догоняет, обгоняет... Снова ищет там, за обтекающей стекло серой мутью сложенное треугольником, запечатанное хлебным мякишем чудо.
Самое удивительное - детали.
Едва заметный штрих на маминой скуле - от носа к уху, будто кто-то черкнул карандашом и тут же стёр. Его не было, когда они уезжали в эвакуацию и видели голубую насыпь.
Потом штрих будет становиться всё глубже, заметнее, пока не станет, как шрам. И из-за него будет в ней нечто от стареющей актрисы.
Но это потом, а пока лишь еле заметный штрих на щеке, и мамин запах, и ещё запах жареного лука в вагоне - Яна слышит, как шипит на буржуйке сковородка. А на столике газета - та, военная.
Но Яна ещё не умеет читать. Иоанна может только повторять себя, ту Яну.
Никаких отступлений, актриса. Нет, кукла, марионетка, которую дёргает за ниточку прошлое, никакой свободы воли.
Москва. Господи, Москва. 43-го. Кажется, они приехали на Казанский. Ну да, Комсомольская площадь. Очень мало машин, допотопные модели, всё больше чёрные. Еле ползут и гудят вовсю.
Девушки в длинных приталенных пиджаках, стриженые или с высокими чубами, с локонами, падающими на квадратные плечи пиджаков. Да не спеши ты, мама!
Идём через стихийную толкучку, торгуют хлебом, американской тушенкой, тряпьём, петушками на палочках.
Подкатывает трамвай.
Глубокоуважаемый вагоноуважатый... Вскочить бы сейчас на подножку, и к Каланчёвке, по Садовому, к Центру. Побродить по той Москве!
За спиной у мамы рюкзак, в руках по чемодану. Яне приказано держаться за хлястик пальто. И так бегом; через площадь к другому вокзалу.
До их станции поезд идёт около часа, а там пешком двадцать минут до их дома с почтовым ящиком на двери.
Яна хнычет, требуя обещанного мороженого. Мама покупает. Полное разочарование. Это никакое не мороженое, а холодный кусок шоколада на палочке.
Яна помнит мороженое в бумажном широком стаканчике, белое, с ванильным вкусом, помнит даже лопаточку.
Мама, наконец, не выдерживает. Получив тумака, глотая слёзы, Яна вгрызается в шоколадку, исходя из принципа "лучше что-то, чем ничего". И тут же блаженно замирает, ощутив на языке, под хрусткой шоколадной корочкой "то самое", довоенное.
Наверное, у всех детей войны столько волшебных воспоминаний связано с едой.
Яна сидит на чемоданах. Липкая, тающая, ванильная, сладкая. Вся в мороженом, сама - одно сплошное мороженое. Мама ушла брать билеты.
Через двадцать минут поезд. Поезд в детство.
А НА ДИВАНЕ ПОДУШКИ АЛЫЕ...
Это уже на всю оставшуюся жизнь. "Сходи за газетой" - будет просить мама по нескольку раз в день.
Через год, два, пять лет... Ей нужна будет не газета.
Ключ от почтового ящика будет висеть на цепочке над ее кроватью, как распятие.
Потом Яна оказалась в зимнем метельном дне.
Взрослые степенно тянулись к клубу. Важно кивнув друг другу, стряхивали с плеч снег и проходили в зал, перегороженный потёртым зелёным плюшем.
Они брали у сидящих за столиками агитаторов бюллетени, проходили к ящику, похожему на почтовый, только побольше, с двумя пальмами по бокам, и спешили опустить сложенные листки в щель ящика.
А затем будто разом расслаблялся какой-то узел, связывающий прежде туго-натуго их движения, жесты, мышцы лица, голос, и там, за дверью, все начинали смеяться, шутить, громко разговаривать, размахивая руками.
Лабиринт. Мгновения, минуты, часы. Яна просачивается сквозь его невидимые стены из одного мгновения в другое. Они, эти мгновения, перетасованы, как колода карт.
Пока мама копается у столика, Яна крутится у таинственной плюшевой шторы, похожей на занавес в театре, куда мама её однажды водила.
"Синяя птица" Метерлинка. Занавес для Яны означал сказку, чудо.
Затаив дыхание, она заглядывает за край зелёного плюша. В полумраке - крохотная комнатка - кабинка. Ничего особенного. Голый стол, стул, на столе - остро отточенный карандаш.
Яна прокралась вдоль занавеса. Ещё одна такая же кабинка.
- Ма, смотри, иди сюда!
Мать хватает её за руку и тащит прочь, нарочито громко, виновато смеясь, как бы приглашая всех посмеяться вместе с ней. Мол, вы уж извините, что с неё возьмёшь, ребёнок!
Вот что означает этот смех - Яна его хорошо знает. Так всегда бывает, когда она сделает или скажет нечто глупое, бестактное, неприличное.
Мама подводит Яну к ящику, подаёт ей бюллетень.
- Опусти. Сама опусти.
И опять по её голосу, выражению лица Яна понимает, что если предыдущий её поступок был оплошностью, то теперь ей даётся почётное право его загладить.
И она, став на цыпочки, суёт листок в щель, и в этот момент что-то вспыхивает, будто молния.
Это фотограф Миша сфотографирует её для отчётной фотовитрины.
Снимок будет висеть на стене в клубе, а им с мамой Миша так и не отпечатает дубликат, хоть и обещал.
Но потом подарит сам снимок.
Мама повесит его на стене над отцовским письменным столом, а Яна, готовя уроки, будет сочинять всякие необыкновенные истории про таинственные кабинки за плюшевой занавеской. Про остро отточенный карандаш на столе, к которому нельзя прикасаться, не то...
Это будут её первые сочинения.
Из зала мама с Яной идут в фойе.
Здесь танцы. Пальто, шапки, платки, валенки свалены на стульях, вдоль стен. На дамах /здесь, в основном, дамы/ яркие летние платья с короткими рукавами.
В фойе холодно, дамы окоченели, особенно нетанцующие, голые руки в мурашках, но дамы крепятся, фасонят, притоптывают ногами в лодочках.
Редко на ком чулки, капрона ещё нет, фильдеперсовые - дефицит, и простые - дефицит, просто босые ноги в валенки и порядок.
Маму танцы не интересуют. Она берет у своей приятельницы - библиотекарши ключ от читального зала и идёт на второй этаж готовиться к сессии.
Яне велено идти гулять, вернуться домой к обеду и ни в коем случае не торчать у патефона.
Патефон - слабость Яны, потому что он тоже - чудо.
Голос и музыка из чёрного репродуктора обычны - звуки бегут по проводам, как электричество. Это Яна знает и понимает. Но патефон...
Больше всего её потрясает даже не сам патефон, а пластинки, хрупкие диски, в каждом из которых уже живёт целиком песня или танец.
С придыханиями певца, звуками оркестра, иногда даже с покашливанием в невидимом зале...
Этого, конечно, не может быть на самом деле, поэтому каждая пластинка - волшебная. И чудо, что её можно по желанию оживить, осторожно опустив на край диска мембрану с иглой.
Яна удивлялась тем ребятам, которые тайком стучали по ящику, царапали ногтем пластинку или старались каким-то образом заглянуть внутрь патефона.
С её точки зрения это было так же нелепо, как искать, где спрятан мотор у ковра-самолёта.
Больше всего ей нравится пластинка, в которой есть слова:
"Пусть муж обманутый и равнодушный
Жену покорную в столовой ждёт..."
Яна представляет себе большую общественную столовую, голодного обманутого мужа за столиком, которому не несут обед, потому что талончики у жены, и она их отдала любовнику, чужому дядьке.
И очень жалела мужа.
" А на диване подушки алые..."
Когда Яна вырастет, и у нее на диване будут красные подушки:
Массовичке Тоне тоже хочется потанцевать, и она доверяет Яне менять пластинки.
Яна ставит самую её любимую - танго из "Петера". Танго называется "медленный танец", но и танцевать его, как в "Петере", не разрешается.
Муся танцует с морячком, который еле передвигает ноги, зажав уголком рта папироску и скользя ленивым взглядом по лицам танцующих "шерочка с машерочкой" женщин.
Какие они все юные - прежде казавшиеся чуть ли не стариками! И она всё о них знает. Могла бы предсказать им будущее, столько бед предотвратить!
Но сцена может лишь бесконечно повторяться.
Пьеса про себя.
Яна спешит к пруду, зажав под мышкой "санки" - сиденье от венского стула.
Ветер швыряет в лицо пригоршни колючей белой пыли, выдувает из глаз слёзы. Яна закутывается в платок по самые брови и остро ощущает вокруг губ, на подбородке мокрую тёплую колкость распаренной дыханием шерсти.
Зима - это запах мокрой шерсти, это едва заметные следы на снегу пока неподшитых и без калош, только что купленных на вырост валенок.
Это даже ещё не звуки, а их предвкушение - где-то там, у пруда, за серой толщей падающего на землю неба, за тишиной, угадывает Яна "своих" - орущих, визжащих, хохочущих, ревущих.
Каким-то щенячьим чувством /наверное есть такое у детства/ - угадывает и кратчайший путь к "своим", спешит, бежит по занесённой тропинке.
Быстрей, быстрей, и не поспевает за сердцем, которое скачет, рвётся вперёд толькиным обручем.
Туда, где темнеет ледяная горка, отполированная дощечками, фанерами, шубами, шароварами.
Несколько секунд от вершины до подножья, несколько секунд чуда, в котором и восторг, и ужас, и боль разбитого носа и обжигающий, крапивный, попавший за шиворот снег.
И хорошо, что уже остановка, и плохо. И жажда, чтоб "ещё".
Нет ли в детских играх какого-то глубинного смысла, символики?
Лёд - тоже чудо. Скоро Яна научится высекать из него радугу и сочинит историю, как дождь с радугой превратились в лёд.
Высечь радугу просто. Нужен лишь небольшой острый камень. Или ударить задним концом конька.

Люська.
* * *
От луга за домом поднимается пар, жаркий, душистый, будто от только ' что заваренного чая.
Прошёл долгий дождь - может, в несколько дней и ночей, и теперь неистовое июньское солнце шпарит вовсю.
Янины носки, сандалии давно промокли, подол хоть выжимай, липнут к ногам длинные стебли травы, ромашек, колокольчиков, сплетаются, мешают идти.
А идёт Яна к плетню - кто-то отхватил от луга небольшой огородик, огородил плетнём.
И уже взошёл на грядке зелёный лучок, а в руке у Яны ломоть хлеба, смоченный подсолнечным маслом, посыпанный крупицами соли.
И если к этому ещё несколько пёрышков лука...
Идёт Яна навстречу своему счастью - не луку, конечно, лук - ерунда.
Сейчас она познакомится с Люськой - и прощай покой.
Понесутся дни сладостные, мучительные, со всякими там переживаниями и острыми ощущениями, жгучими, аж слезы из глаз.
Этот самый лук, перец, горчица и ещё невесть что - такая она, Люська.
Есть у Маршака:
Вот тебе пирожок сладкий.
С луком и корицей,
С перцем и горчицей.
Вот что такое Люська.
Сейчас, сейчас получит Яна свой сладкий пирожок. До Люськи несколько шагов.
Сидит на плетне - одной босой ногой зацепилась за прутья, другой просто болтает - неимоверно грязной, с налипшими комьями глины. Так что Яне вначале кажется, будто Люська в коричневых ботинках.
Солнечный удар. Нокаут с первого взгляда.
Разве может быть на свете другая такая девочка?
Волосы у Люськи перепутаны, как сено в стоге, обломок гребёнки торчит в них, как вилы без ручки.
Платья на Люське никакого, только лиловые штаны, закатанные, как трусы.
Худое, гибкое, как у ящерицы, тельце отливает чернотой, и не разберёшь, где грязь, где загар.
От плеча до локтя у Люськи - татуировка - русалка с рыбьим хвостом.
Но самое замечательное у Люськи - глаза.
Только что они были закрыты - Люська, казалось, дремала, греясь на солнышке...Потом приоткрылись, чиркнули в них узкие щелки - Люська почуяла приближение Яны.
Зафиксировали и тут же захлопнулись, тусклые, равнодушные. Яна глядит в них, будто с улицы в окна.
Но вот чудо - вдруг вспыхнули, брызнули жарким ласковым светом.
Скорей сюда, ко мне, я тебе ужасно рада, я тебя ужасно люблю...
Взаимность! Яна балдеет от счастья, ей всё не верится.
Неужто чудо протягивает ей руку, неужели можно запросто коснуться сплетённого из разноцветных проволок колечка на мизинце чудо-девочки?
Яна коснулась кольца - Люська улыбнулась. Зуб - провал, два зуба - опять провал. Будто черно-белые клавиши.
Яна зажмурилась, благоговейно пожала сухие горячие Люськины пальцы. Проволока от кольца царапнула ладонь.
- Дай куснуть, - сказала Люська.
Зубы-клавиши вонзились в хлеб. влажно скользнули по коже - Яна едва успела отдёрнуть руку с зажатым в пальцах огрызком со следами люськиных зубов...
- Я тебя знаю, - сказала Люська, с трудом шевеля набитым ртом, - Ты из большого дома, у тебя отец погиб и ты вчера с наволкой плавала.
Яна счастливо кивает, проглатывает огрызок, не чувствуя вкуса.
Какой уж тут лук!
- На наволке здорово, - говорит Люська, - Только моя с дыркой.
- У меня ещё одна есть.
- Тогда тащи и айда на пруд.
Яна бежит к дому, но нет, не успеть, не добежать.
Тускнеют краски, наползает туман...
Сейчас перевернётся страница, и она не успеет содрать с подушки новую накрахмаленную наволочку, - первое преступление ради Люськи.
А сколько их будет!
Отвлекать билетёршу Клаву, чтоб Люська прорвалась на "Даму с камелиями", отвлекать сторожа, пока Люська лакомится колхозной смородиной, отвлекать учительницу, пока Люська шпаргалит...
Яна попадалась. Люська - никогда.
Яна считалась хулиганкой. Люська - паинькой.
Яну распекали, наказывали, но она была счастлива.
Это была настоящая страсть - жертвенная, самоотверженная.
Однажды у мамы пропал новенький пуховый берет.
Через несколько дней они столкнулись с Люськой на улице - Люська щеголяла в мамином берете.
Яна ревела, клялась, что подарила берет, прямо силой навязала, а зачем, сама не знает.
Наверное, такая уж она гадкая, и пусть мама её хоть год не пускает в кино, только не жалуется люськиной матери.
Тогда мама сказала, что пусть уж Люська извинит, раз Яна такая чокнутая, но берет ей самой нужен, так что она его забирает.
Но поскольку так нехорошо получилось и на улице холодно, пусть Люська наденет её шерстяной платок с розами и вообще возьмёт его насовсем.
А с Яной она дома поговорит.
Люська ласково щурилась на Яну из-под платка с розами, платок ей очень шёл.
Яна плелась за мамой, готовая вынести любое наказание.
Мама молча войдёт в комнату, швырнёт на диван пальто, злополучный берет и, притянув её к себе, спросит с горьким недоумением:
- За что ты её так любишь?
Этого Яна сама не знала.
Это заболевание почему-то тоже назвали любовью.
Конечно, она не должна была любить Люську. Она должна была тогда любить её, маму.
И теперь, через много лет, она уже совсем не любит Люську, и всё понимает.
Но мамы давным-давно нет, и ничего не исправить.
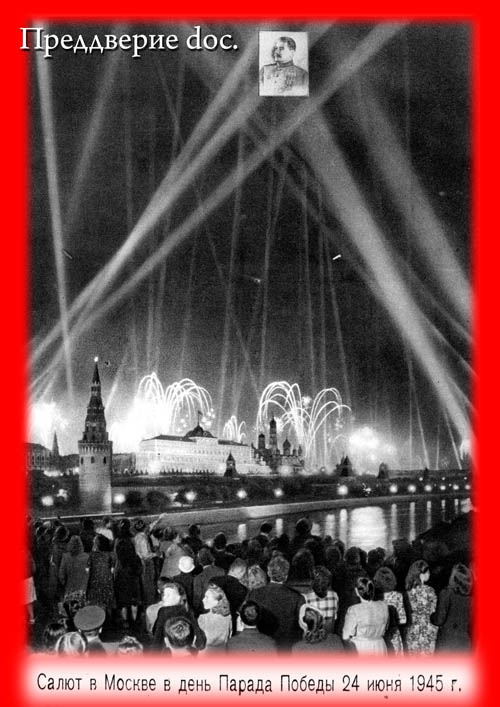
Яна-партизанка.
* * *
Дворовая игра в войну, в наших и фрицев.
Девчонок если и принимали, то фашистами, которыми быть никто не хотел, и устанавливали обязательную очерёдность. Проигравшие иногда ходили "во фрицах" несколько дней подряд и от унижения порой лютовали, как настоящие фашисты.
Однажды Яна дослужилась до высокой чести быть партизанкой и разрушить мост, который враги соорудили через канаву. Мост состоял из старой двери и нескольких гнилых досок, охранял его Зюка, - младший Зюкин. Был ещё Зюкин - старший, того звали Зюк. Имён их никто не знал.
Яна применила военную хитрость. Подкралась и, спрятавшись за дерево, пустила по течению кораблик из сосновой коры, который мастерски соорудил ей знакомый дяденька.
Кораблика было жалко, но игра стоила свеч.
Зюка, само собой, погнался за приманкой, течение после дождя было сильное, и Яна успела завалить в канаву мост и броситься наутёк.
Обведённый вокруг пальца 3юка, к тому же не поймавший кораблик, без труда догнал партизанку, дал затрещину и взял в плен.
Но, чтобы восстановить мост, надо было выпустить пленницу - верёвки у Зюки не было.
Поколебавшись, разъярённый Зюка решил плюнуть на мост и, покрутив под носом у Яны грязным кулаком, заявил, что не отпустит, пока Яна не скажет, где их партизанский штаб.
Штаб был неподалёку, в сарае у Катьки, но партизанка Яна, разумеется, в восторженном ужасе сказала "Никогда!"
И Зюка под дулом деревянного автомата отвел ее через соседний подъезд на чердак их дома.
По пути им попадались знакомые взрослые, оба чинно с ними здоровались, будто ничего не происходит - вмешивать взрослых в игру категорически не разрешалось под угрозой жестких санкций до конца детства.
- Колись, в последний раз спрашиваю.
Яна яростно мотнула головой.
Зюка впихнул ее на чердак, задвинул снаружи щеколду и прорычал через дверь, что, если она передумает, пусть откроет окошко чердака - это будет условный знак, что она сдается.
А то пусть сидит здесь всю жизнь.
Коварный Зюка придумал так, что она даже окно не имела права открыть. И позвать на помощь не имела права.
Темнело, что-то потрескивало, шуршало, попискивало - крысы, наверное.
Внизу раздавались голоса, топали по лестнице, возвращаясь с работы, потом долго и встревоженно звала ее мать.
Теперь еще и влетит, если она вообще отсюда когда-нибудь выйдет.
Одно твердо знала Яна - окно она не откроет никогда.
Пусть ее даже съедят крысы.
Было уже совсем темно. Обливаясь слезами от страха, Яна молилась Богу бабки Ксении, чтоб Он вмешался, спас:
- Сделай что-нибудь, боженька, миленький, ведь мама за меня волнуется. Ты ей шепни, что я здесь...
И чудо произошло.
Топот по лестнице, смех, дверь распахивается.
Полыхнули по стенам карманные фонарики и ворвались на чердак дети, за ними и взрослые пришли, открыли чердачное окно...
И Зюка был тут же, на нее не смотрел, будто они и не сражались только что насмерть.
Все пришли смотреть салют - только что объявили по радио, взят какой-то город.
Двадцатью артиллерийскими залпами.
Салют над Москвой был виден лишь отсюда, с чердака.
И Зюка был уже совсем не враг, и другие ребята, и даже мама, пригрозившая:
- Завтра в кино не пойдешь, где ты шляешься?
Мама обняла ее, приподняла, чтоб лучше видно было.
Кино это что, мелочи жизни, ну не пойдет. А может, завтра подобреет мама...
И тут вдали за лесом вспыхнуло, расцвело волшебно-разноцветное зарево.
- Ура-а!..
И все хором отсчитывают залпы, и восторженным хором стучат сердца - наши взяли еще один город.
Она, партизанка Яна, сегодня тоже победила, и Бог услышал ее.
Мы все вместе, и Бог с нами.
Остановись, мгновенье...
ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ.
Май сорок пятого, праздничный салют после парада Победы. Небо то и дело взрывается ликующими неистовыми красками, и море-толпа несет, качает. Подожмешь ноги, и плыви себе. Щека Яны мокрая от чьих-то слез, поцелуев, все без разбору целуют друг друга, свои и чужие, здесь нет чужих, здесь все "наши". Щеку не вытереть - руки не поднять, так тесно.
И все поют, поют, сбиваются, путают слова, затягивают новую песню, и мама поет, кажется, громче и звонче всех, но взгляд все с той же голодной цепкостью обшаривает толпу. А вдруг? В шесть часов вечера после войны?..
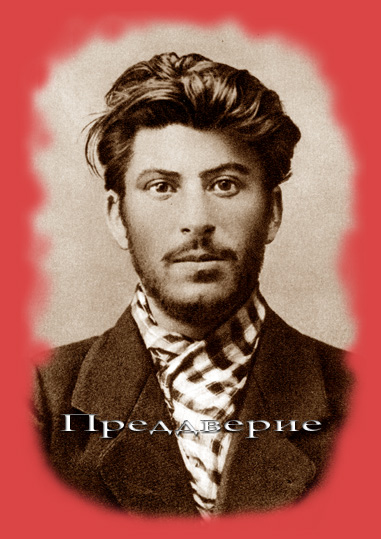
Коба, начало пути.
ПРИСУТСТВОВАЛИ: АХ (Ангел-Хранитель), АГ (Ангел-Губитель).
* * *
- Почему ушёл из семинарии незадолго до окончания? – переспросил АХ, - Ладно, давай разберёмся.
Биографы пережёвывают несколько версий: потерял веру в Бога, увлёкся марксизмом, мать забрала домой из-за якобы начинающегося туберкулёза - это версия самой Екатерины...
Иосиф же всё объясняет издевательским режимом и иезуитскими методами в семинарии. Ни о каком атеизме или отступничестве речи не идёт, АГ, и не надейся.
На вопрос немецкого писателя Эмиля Людвига, нет ли у иезуитов положительных качеств, Иосиф сердито отвечает:
- Да, у них есть систематичность, настойчивость в работе для осуществления дурных целей. Но основной их метод - это слежка, шпионаж, залезание в душу, издевательство - что может быть в этом положительного?
- Да это же его автопортрет! - хихикнул АГ, - Нечего туману напускать. Ушёл, потому что в Бога больше не верил, вот и весь сказ.
- А ты сам-то, сын тьмы, - ты ведь знаешь, что Бог есть, "веруешь и трепещешь". Но разве это тебя спасёт?
Давай-ка разберёмся. Положительный или отрицательный ответ на вопрос о вере ничего не решают - сразу возникает следующий вопрос: об имени и сущности твоего Бога, Его учения.
Наш подсудимый не верил в иезуитского бога, суть которого - мелочная слежка, издевательства, а главное - служащего кесарю и угнетателям, которых на каждой странице бичует Писание.
Не защищающего униженных и угнетённых...
"И льстили Ему устами своими, и языком своим лгали пред Ним; Сердце же их было неправо пред Ним, и они не были верны Завету Его."
/Пс. 77, 36-37/
"Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце.
Над всем издеваются; злобно разглашают клевету; говорят свысока.
Поднимают к небесам уста свои, а язык их расхаживает по земле!
Потому туда же обращается народ Его и пьют воду полною чашею.
И говорят: "как узнает Бог?" и "есть ли ведение Вышнего? "И вот, эти нечестивые благоденствуют в веке сем, умножают богатство."
/Пс. 72, 7-12.
- Ведь что искали, перетряхивая вещи семинаристов?
Книжки и листовки, обличающие "жирных" и пытающиеся хоть как-то заступиться за "малых сих". За которых, кстати, церковники сами обязаны были заступаться согласно христианскому учению.
И прокламации эти порой так напоминали гневные обличения из уст Христа, которыми зачитывался Иосиф!
Сосо нравилось, когда его называли Кобой - по-турецки "Непримиримый".
В его любимой книге "Отцеубийца" одна простая женщина обращается к Кобе с мольбой о заступничестве.
Там так и написано:
"Странно! При организованном управлении, когда начальники, диамбеги, судьи, приставы и всякие другие чиновники наводнили страну, как муравьи, и делали вид, что чинят правосудие, простая, ни в чём не повинная женщина умоляла человека, совершившего убийство, защитить её от несправедливости".
- Вот свидетельство одного из воспитанников духовного училища:
"В первые годы учения Сосо был очень верующим, посещал все богослужения, пел в церковном хоре.
Хорошо помню, что он не только выполнял религиозные обряды, но всегда и нам напоминал об их соблюдении".
/журнал "Безбожник", 1939/.
Мальчик, конечно, не мог разобраться во всех тонкостях православного учения, но он полюбил Бога - заступника униженных и угнетённых, борца за правду, против "хищных вампиров", против лжи и насилия.
И поверил в Него, ненавидящего пожирателей чужих душ и жизней.
Бога, призвавшего и благословившего его, Кобу, стать Его воином.
Иосиф мечтал стать Кобой, непримиримым и бесстрашным борцом против вселенского зла.
Монашеский подвиг, внутреннее делание, монотонные однообразные требы в каком-либо приходе были ему чужды, хотя он и был по натуре аскетом.
"Спасись сам, и вокруг тебя спасутся тысячи..."
Нет, он жаждал в корне изменить мир.
Он с восторгом перечитывал:
" Ибо дом Мой назовётся домом молитвы для всех народов.
Стражи их слепы все и невежды; все они немые псы, не могущие лаять, бредящие лёжа, любящие спать.
И это псы, жадные душою, не знающие сытости; и это пастыри бессмысленные; все смотрят на свою дорогу, каждый до последнего на свою корысть.
И сказал: ПОДНИМАЙТЕ, ПОДНИМАЙТЕ, РАВНЯЙТЕ ПУТЬ, УБИРАЙТЕ ПРЕГРАДУ С ПУТИ НАРОДА МОЕГО.
А нечестивые - как море взволнованное, которое не может успокоиться и которого воды выбрасывают ил и грязь.
Нет мира нечестивым, - говорит Бог мой".
/56, Ис. 7, 10, 11, 57, 14, 19-21/
"Нет мира нечестивым"... "Непримиримый"...
Коба.
- Вот я и утверждаю, сын тьмы, что положительный ответ на вопрос: веришь ли ты в Бога? – сам по себе ничего не означает, ибо:
1.Ты можешь верить в ложного Бога, то есть твоё представление об Истине вовсе Истине не соответствует.
2.Или не верить в ложного бога, что уже неплохо.
3.Верить в истинного Бога и Его учение, но учению этому не следовать, что явится сугубым грехом. Ибо "Кому много дано, с того много спросится".
Обратись к любому прохожему, даже к прихожанину в храме - во что ты веришь? Хорошо, если один из тысячи верующих ответит что-либо вразумительное.
Большинство, если и верит, то сердцем.
Ну а насчёт учения - тут до сих пор не только споры, но и битвы идут. Не говоря уже о "следовании" этому учению.
Вот, к примеру, идёт война, а военнообязанные на призывной пункт не явились. Дезертиры, под трибунал. А иные невоеннообязанные пришли добровольцами и воюют.
Это как? Кто более угоден Богу?
Через много лет, на полях книжки Анатоля Франса "Последние страницы", где были строчки "Верить в Бога и не верить - разница невелика. Ибо те, которые верят в Бога, не постигают Его", Иосиф напишет:
"Следовательно, не знают, не видят. Его для них нет".
Так что не торопись осуждать Иосифа. Пока мы лишь установили, что он ушёл от бога, мирящегося со злом, благословляющего зло.
Не верил он и в бога Льва Толстого, в непротивление злу насилием.
На полях романа "Воскресение" он пишет: "ха-ха-ха" - там, где автор утверждает, что "единственное и несомненное средство спасения от того зла, от которого страдают люди, состоит в том, чтобы люди признавали себя всегда виновными перед Богом и потому неспособными ни наказывать, ни исправлять других людей".
- Вот уж истинно "Ха-ха-ха!" – захлопал в чёрные ладошки АГ, - Менты откажутся Чикатилл ловить и сажать, а мы тем временем им нашепчем полстраны перерезать...
- Вот видишь!
- Но разве не сам Христос сказал:
"Не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щёку твою, обрати к нему и другую;" /Мф. 5, 39/.
- "Злому", а не "Злу".
"Кто ударит ТЕБЯ", а не другого!
Прощай и люби СВОИХ врагов и обидчиков, но не врагов слабого и обездоленного.
"Избавляйте бедного и нищего, исторгайте его от руки нечестивых."
/Пс. 81, 4/.
Иначе "молчанием предаётся Бог" ...
Предаётся, потому что Бог не может приказывать своим воинам не вступаться за обиженных. Это противоречит вписанному в сердце Закону.
От такого "бога" и народ, и народные защитники уходят в атеизм и берутся за топор.
Что и случилось в царской России.
"ПОДНИМАЙТЕ, ПОДНИМАЙТЕ, РАВНЯЙТЕ ПУТЬ, УБИРАЙТЕ ПРЕГРАДУ С ПУТИ НАРОДА МОЕГО".
"НАРОД МОЙ".
Разве это не богочеловечество грядущего единого Царства, о Котором я ему когда-то напел?
Пылкий, жаждущий истины и справедливости отрок воспринял эти библейские слова, как приказ.
Относящийся не только к еврейскому народу, но и к "купленным дорогой ценой" избранникам Спасителя.
Борьба с Вампирией, обшеством кровопийц, до последнего вздоха.
Он с восторгом подчинился такому "Своему Богу", принял Его в сердце и был Ему верен до конца.
Он никому не навязывал "Своего Бога".
Он отделил церковь от государства, но никогда не принадлежал самому себе, служа Его тайной Воле.
Истязая себя и других, внимая лишь ему слышимому Голосу.
И марксизм, и революция, и личная власть никогда не были для Иосифа самоцелью - лишь средствами исполнить Волю.
- Революция, бунт не могут быть от Бога! Ты, Позитив, говори да не заговаривайся!
- Ну, во-первых, это не только моя точка зрения, что я обязательно докажу в следующей части.
А, во-вторых, я же говорю - революция была для Иосифа лишь средством.
Впоследствии он отступил и от революции, и от марксизма, согласно Воле.
- Ого!
- Часть, верная Целому, должна смиряться перед личными амбициями,но не смотреть спокойно, как одни клетки пожирают других, ибо это - рак. Нужна хирургическая операция, которая осуществляется воинами Божьими по Воле Хирурга.
Я говорю о революциях.
"... И будет пасти их жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, как и Я получил власть от Отца Моего ".
/Отк. 2, 23/
Иосиф ушёл из семинарии, служители которой уничтожали книжки, разоблачающие их ложь и лицемерие. Которые, как вампиры, почему-то боялись Света.
- Ваше ведомство уже и революции устраивает! - возмутился АГ, - Будто не я нашептал Иосифу, подговорив бросить семинарию.
Мол, с твоими-то способностями и умом проповедовать каким-то полуграмотным старухам в провинциальном приходе...
Ну, пусть в Тифлисе - предел мечтаний. Да ещё когда "Русская церковь в параличе"...
Не кривись, это не я, это Достоевский сказал...
Будто не я подсовывал ему весь этот бред, что человек произошёл от мартышки и вследствие этого факта должен свершить мировую пролетарскую революцию...
- А Иосиф лишь посмеивался и вспоминал, как его дружки-пролетарии дрались в пыли из-за горстки монет, брошенных какой-то шлюхой...
Нет, его на мякине не проведёшь.
Он знал, что такое первородный грех, что "жертва" - лишь изнанка упыря.
Потенциальный вампир, ждущий своего часа.
Обожествление революции - чепуха! Революция - всего лишь вскрытие гнойника.
Первым оборотнем был твой хозяин, АГ. Бывший Денница, светлый ангел, ставший Князем тьмы.
Затем – Каины, Иуды вместе с толпами жителей Иерусалима, орущих то "Осанна!", то - "Распни его!"
Оборотень, вампир - в душе каждого - это Иосиф прекрасно усвоил.
Твой звериный двойник с разросшимися когтями, зубами, пузом, гениталиями, который нашёптывает:
"Не слушайся Бога - тогда сам будешь как Бог..."
Если не убьёшь его в себе, его рано или поздно убьёт Свет, ибо эти твари не выносят света.
Стыдишься, чувствуя его в себе, ужасаешься ему?
Вбиваешь в него осиновый кол или взращиваешь, питаешь чужой кровью - вот вопрос вопросов.
Ибо тогда он станет твоей сутью и убьёт тебя!
Рано или поздно придёт Свет и убьёт тебя, ставшёго зверем.
Ибо вампир не выносит Света.
Вот во что верил мой подзащитный до конца дней своих.
Я сам напел ему это в Третьей Песне о Главном.
- А у меня на все твои измышления, Позитив, есть одна цитатка:
"Там, в кругу русских рабочих - освободителей русских народов и застрельщиков пролетарской борьбы всех стран и народов, я получил своё третье боевое революционное крещение.
Там, в России, под руководством Ленина, я стал одним из мастеров от революции».
Это 1926 год, ответ тов. Сталина на приветствия.
Это что, лицемерие?
Но какой пафос... "Третье крещение"... - это ли не кощунство, отступничество?
- Ну, во-первых, здесь всего лишь образ, пусть не очень удачный. Иосиф вообще часто употреблял слова и изречения из Писания.
- А эта его клятва выполнять "заповеди Ленина, держать в чистоте великое звание члена партии, как зеницу ока беречь единство партии, всеми силами крепить союз рабочих и крестьян, укреплять союз республик, быть верными принципам Коммунистического Интернационала"...
И вообще вся эта "клятва" напоминает по форме православную церковную службу...
Это что, тоже тактика?
- Разумеется.
Партия для него - это охранная служба Антивампирии.
Союз республик рабочих и крестьян - основа укрепления Антивампирии /так мы назовём бывшую "Святую Русь"/.
Принципы Коммунистического интернационала - красные флажки, которыми обложены волки...
И во всём этом - ничего враждебного Воле. А может, и прямая Воля.
Перед нами - клятва начальника охраны /Иосиф выступал от её имени/ новорожденного государства, противостоящего "лежащему во зле" миру.
Пусть даже силами зла...
А православная риторика - ну что ж, - воин Иосиф использует своё оружие. Которым он лучше всего владеет.
Нет здесь никакого отступничества, Негатив. Повторяю, и партия, и революция, и Интернационал для Иосифа - лишь средства.
Позволь тебе по этому поводу напомнить про жезл Моисея:
"И сказал ему Господь: что это в руке у тебя? Он отвечал: жезл.
- Господь сказал: брось его на землю. Он бросил его на землю, и жезл превратился в змея, и Моисей побежал от него.
И сказал Господь Моисею: простри руку твою и возьми его за хвост. Он простёр руку свою и взял его; и он стал жезлом в руке его".
/Исх. 4, 2-4/
Сам змей, заклятый враг человека, по Воле Божьей может стать жезлом, помогающим в пути.
* * *
"Он сойдёт, как дождь на скошенный луг, как капли, орошающие землю.
Во дни его процветёт праведник, и будет обилие мира, доколе не престанет луна.
Он будет обладать от моря до моря и от реки до концов земли. Падут пред ним жители пустынь, и враги его будут лизать прах. И поклонятся ему все цари; все народы будут служить ему.
Ибо он избавит нищего, вопиющего, и угнетённого, у которого нет помощника.
Будет милосерд к нищему и убогому, и души убогих спасёт.
От коварства и насилия избавит души их, и драгоценна будет кровь их перед очами его.
Будет обилие хлеба на земле, на верху гор; плоды его будут волноваться как лес на Ливане, и в городах размножатся люди, как трава на земле.
Будет имя его вовек; доколе пребывает солнце, будет передаваться имя его. И благословятся в нём племена; все народы ублажат его.
/Пс. 71, 6-17/

Кусок сахара.
Двойка в тетрадке, жирная, красная, встала на дыбы, как взбесившийся червяк, и я, дрожа от омерзения, срисовываю с нее ряды двойников.
Десятки лиловых червяков с завязанными хвостами. Когда я завязываю им хвосты, из-под пера брызжут липкие жирные кляксы - на тетрадку, на пальцы, на платье - они везде, мерзкие лиловые следы раздавленных червяков.
Бросаю ручку. Лиловые слезы капают на тетрадь.
- Дур-ра!.. раздраженно кривится Люська, - Ме-е... Дур-рында! Во, видала?
Люськины двойки тонкие и изящные. Горделиво плывут они друг за другом по строчкам, выгнув грациозные фиолетовые шеи, и это, конечно, волшебство, как и все, связанное с Люськой.
А волшебство - всего лишь новенькое дефицитное перышко "уточка", которое забрала у меня Люська, подсунув взамен свое, с разинутым, как у прожорливого птенца, клювом.
- Слышь сюда, - люськины глаза сверкают, горячий шепот обжигает, будто пар из чайника, - Развалины у вокзала знаешь?
- Это куда бомба попала?
- Ну!.. Там на стройке немцы работают. Взаправдышные.
- Врешь!
- Во! - блатной люськин жест: грязным ногтем большого пальца чиркнуть по зубам и шее означает самую страшную клятву. Мгновенно высыхают слезы. Немцы... Ужасные человекоподобные существа с окровавленной пастью, клыками и ножом за поясом, созданные грабить, жечь, убивать. Мистические носители зла, вроде Кащея, бабы Яги или Бармалея. Такие, как в книгах, плакатах, карикатурах. Живые немцы... Ой-ёй!..
- Сбегаем поглядим?
- Да-а, хитренькая...
- Вот дурында, мы же их победили, чего бояться-то? Они же пленные!
- Они что, привязанные?
- Да ничего они нам не сделают, у них все ружья отобрали, дур-рында. Ну?
Уж эти Люськины глаза!
Мы крадемся вдоль сплошного дощатого забора стройки, замирая от страха, слышим редкие отрывистые звуки чужой речи. Должна же где-то быть щель! Одна из аксиом, которой мы научились в недолгой своей жизни - заборов без дыр не бывает. Хоть одна-единственная...
И когда мы находим эту одну-единственную, из-за угла появляется часовой. Это наш часовой, в пилотке и с ружьем. Он не смотрит на нас с Люськой. Он смотрит на женщину в короткой юбке. Та, чувствуя его взгляд, неспешно проходит мимо, покачивая бедрами. В руке у нее авоська с морковью.
- Тю-у!
- Чего тю-то? - весело оборачивается она к солдату.
- Угостила б морковочкой...
- Морковочки ему, много вас таких, - а сама уже остановилась, смеется, и часовой смеется, тянет к себе авоську.
- Лезь! - приказывает Люська.
- Да-а, почему я?
- Дур-рында, я ж тебе, как подруге, чтоб все поглядела... Я караулить буду, - шипит Люська и запихивает меня, упирающуюся, в дыру. Задвигает доской.
Дергаю доску - безрезультатно. Люська навалилась с той стороны.
- Ш-шш, часовой...
Первое желание - плюхнуться на землю и так лежать в по-осеннему редком кустарнике у забора, пока Люська не выпустит. А может, зареветь во весь голос этому самому часовому с ружьем? Он хоть и с ружьем, зато наш, а эти...
Я сижу на корточках, одной рукой судорожно сжимая портфельчик, другой прикрывая глаза. Я трусиха, страус. Меня не видно, потому что я сама себя не вижу.
От земли пахнет грибами.
Они где-то неподалеку, переговариваются. Все же любопытство пересилило. Глянула. Сперва одним глазом, потом двумя.
Вот те на! Там, у разрушенного здания, двигались обыкновенные люди. И не как немцы в кино - истерически визжащие, с искаженными лицами, беспорядочно дергающиеся, как марионетки. Эти двигались размеренно и в то же время быстро. Одни что-то размешивали в огромном корыте, другие таскали ведра и носилки, третьи обколачивали цемент со старых кирпичей - и все это деловито, даже весело, подчиняясь старшему с черной повязкой на глазу.
Какие же это немцы, это и не немцы вовсе! Наврала Люська. Обычные люди. Мало ли кто говорит не по-нашему? Украинцы, например, грузины. Цыгане тоже не по-нашему говорят...
Тот, с черной повязкой, поглядев на часы, что-то крикнул, они расселись мигом вокруг костра, над которым дымился котелок. Мгновенно у каждого оказалось по миске с ложкой, бойко застучали ложки по мискам. Строители перебрасывались словами, пересмеивались...
И наш часовой тут же с миской и ложкой, отложил ружье, расположился на травке вместе с этими. И они ружье не хватают, чтоб его убить. Вот он им что-то сказал, они разом загоготали, и наш посмеивался, грызя отвоеванную-таки морковку.
- Ну?..
Сунулась в щель люськина физиономия с косящими от любопытства хищными глазками. И я отомстила. Зашипев на Люську, задвинула доску, сама навалилась спиной.
Нет, конечно, никакие это не немцы. Даже обидно. Надо придумать, что бы такое рассказать Люське...
И тут я увидела, что к забору, к кустам, прямо на меня идет человек. Один из этих. Долговязый, костистый, в хлюпающих сапогах со слишком широкими голенищами.
Цепенею от ужаса и в ту же секунду понимаю, что он меня не видит. Что он идет к забору по своим вполне определенным естественным надобностям.
Остается лишь зажмуриться, я - страус воспитанный. Томительно ползут секунды, ползут по голым ногам и кусаются злые осенние мухи. Терплю. Наконец, слышу его удаляющиеся шаги. Но тут проклятая Люська дергает сзади доску, доска скрипит, с треском ломается где-то совсем рядом сухая ветка и...
Кто кого больше испугался? Его лицо и шею заливает краска, и я понимаю, что он рыжий, хотя волосы, торчащие из-под смешной, как у гнома, шапки, не рыжие. Зато веснушки рыжие. Потом он улыбается совсем не как немец.
Я тоже отвечаю улыбкой.
Он спрашивает: - Ты что здесь делаешь?
Я догадываюсь, о чем он спросил, хотя не поняла ни слова. Просто именно это спросил бы любой другой на его месте. И ответила: "Просто так".
Еще он спросил, кивнув на портфель: - Из школы?
И опять я поняла - что ж тут было не понять?
Тогда он садится рядом, вытянув ноги в стоптанных сапогах , а потом, спохватившись, спрашивает, можно ли сесть.
Я разрешаю. Он достает кисет и просит разрешения закурить. Я опять разрешаю.
Удивительно, что я все понимаю, не понимая ни слова! Потом он стучит себя по груди и сообщает, что его зовут Курт. А я говорю, что меня зовут Яна.
Он оживляется, что-то мне втолковывает - не понимаю. Тогда он просит у меня портфель и рисует на промокашке девушку на коне. Рисует он здорово. И пишет: "Jana."
Пишет он не по-нашему. И я спрашиваю: Вы вправду немец?
- Я, - говорит он.
- Ты, - киваю я, - Ты разве немец?
Да, - отвечает он по-русски, - Я есть немец.
Наверное, что-то меняется у меня в лице, потому что он поспешно лезет в карман линялой гимнастерки и достает фотографию женщины с очень красивыми белыми локонами до плеч. Женщина сидит в плетеном кресле под деревом, рядом - конопатая девчонка с мячом, и конечно же она - дочь этого Курта и женщины с красивыми локонами. Девчонка как девчонка, немного похожа на Капустину из второго "Б".
Я хочу сказать немцу, что его дочь похожа на Капустину, но пока соображаю, как же будет по-немецки "Капустина", он протягивает мне жестяную коробочку. В коробке белеет кусок сахара. Поколебавшись, беру и говорю "спасибо". Такого куска, если его поколоть, на пять стаканов хватит. Вот так немец!
А он рассовывает по карманам кисет, жестянку, фотографию, руки у него дрожат и дрожит голос, когда рассказывает, что дочь его такая же, как я, и дрожат губы, и тут тот, с черной повязкой, что-то кричит, и мой немец мгновенно вскакивает, вытягивается - руки по швам, а потом, так же мгновенно опять присев (слышу, как коленки хрустнули) судорожно прижимает к груди мою голову. Этот запах. Пота, табака, и еще чего-то полузабытого, имеющего отношение к довоенному нашему миру, отцовскому ящику с помазками и лезвиями, куда мне не разрешалось лазить.
Лицо немца, впечатанное в серую оправу осеннего неба. Дрожащие губы, дрожащие на побледневших скулах конопатинки, глаза, наполненные влагой, напряженные, немигаюшие, - и вот они тонут, как лодки, захлестывает влага покрасневшие веки-борта...
Немец бежит к тому, с черной повязкой, хлюпают на ногах слишком большие сапоги.
За забором часовой свистит и орет на Люську. Слышу, как она удирает.
Через полчаса, много лет тому назад, не найдя сбежавшей Люськи, я помчусь домой, чтобы сообщить свое потрясающее открытие.
Немцы - тоже люди.
Они умеют любить и даже плакать, у них тоже есть дети, и они скучают по своим детям.
Я лечу как на крыльях, сжимая в кулаке великое доказательство - кусок сахара. Баба Яга обернулась феей, зло - добром. И это добро подарю миру я, Синегина Яна.
Коричневая дверь с ромбами, стон расшатанных ступенек, скользят кулаки по дерматину. Испуганное мамино лицо. Выпаливаю ей про немца и вижу, вижу, что с каждой секундой мы все больше не понимаем друг друга, и не знаю, почему - ведь все так хорошо и ясно!
Разжимаю, наконец, кулак с "великим доказательством".
Мама смотрит в каком-то оцепенении на волшебный кристалл, сияющий белизной в полутьме передней, и вдруг лицо ее искажается, ребро ладони гильотиной обрушивается на "доказательство".
Яростно, исступленно топчут его каблуки, превращая в грязное крошево.
Вечером, когда стихнет, наконец, мой отчаянный рев, и мы с мамой помиримся и засядем за уроки, я, снова закручивая хвосты двойкам, буду мучительно размышлять - как же совместить мамино ненавидящее:
"Они убили твоего отца! А бабушку с дедушкой... Там, в оккупации..."
- как совместить это с девчонкой, похожей на Капустину, с его дрожащим голосом, дрожащими губами, с конопатинами на побледневших скулах, с тонущими лодками-глазами?..
Ведь и то, и другое не было ложью - это я чувствовала безошибочной детской интуицией. Как же совместить эти две несовместимые правоты?
Смертельная недоуменная обида на саму эту несовместимость, нарушившую гармонию моего тогдашнего мира, в котором зло было злом, добро - добром, и уж если оборачивалось зло добром, то взаправду и насовсем, чтобы все были счастливы, а не топтали это добро каблуками.
Воспоминание о крушащих маминых каблуках долго будет мучить, ныть во мне, как заноза.
Пока однажды не исцелит меня сон, странно чудесный, который я никому не расскажу - ни маме, ни Люське, но который запомню навсегда.
В этом детском моем сне все дивным образом переплетётся, все станет всем.
Там я буду сидеть на коленях отца, на том залитом солнцем довоенном берегу Клязьмы, куда отец однажды возил нас с мамой на мотоцикле с коляской.
Но я буду не только мною, но и конопатой девчонкой, похожей на Капустину, и самой Капустиной. А у мамы будут локоны до плеч, потому что она станет и той блондинкой с фотографии.
А обнимающий меня отец будет одновременно Куртом, этим моим немцем.
И в руке у меня окажется мяч.
И тот наш довоенный день станет тем их днем, когда остановилось мгновенье.
И дерево, и плетеное кресло, и берег Клязьмы, и жужжащие пчелы будут и теми, и этими.
И небо, и облака.
И мы все будем радоваться, что все так просто, чудесно разрешилось.
И что так будет всегда, и июнь сорок первого никогда не наступит.
И запущенный отцом воздушный змей белой печатью скрепит остановившееся время.

Кое-что о масонах.
Присутствовали:
АГ (Ангел-Губитель), АХ (Ангел-Хранитель Иосифа).Иоанна и билетёрша тётя Клава (за кадром).
Свидетели:
Пётр Чаадаев - мыслитель и публицист, Антоний (игумен Черменецкого монастыря, 1848г), поэт и писатель А. К.Толстой, святой Кирилл Александрийский, масон брат Франклин, масон брат Дельпаш, историк Лев Тихомиров, поэт и писатель Александр Пушкин.
Снова полутьма просмотрового зала, трещит проектор, ноет стиснутое меж кресел тело Иоанны.
- Все твои измышления нуждаются в доказательствах, - заявляет АГ. -Нужны документы, свидетели..."Иосиф - богоданный правитель!" - это же чушь.
-То не я сказал, а патриархи, Сергий и Алексий Первый, и архиепископ Лука (Войно-Ясенецкий), кстати, известный хирург, получивший сталинскую премию первой степени за работу о гнойной хирургии.
Но я о другом. Давай проследим, когда идея "Святой Руси" дала трещину и князья, а за ними и некоторые священнослужители перестали пасти овец, а стали их, грубо говоря, стричь и жрать, нарушая повеление Божие, которое мы уже здесь неоднократно приводили.
Князья, "отцы и защитники" малых сих, постепенно превращались в хищников, соблазняясь сами и служа соблазном для народа Божия, "купленного дорогой ценой" - кровью Спасителя. Начнём с того, что всякая цивилизация сравнима с живой клеткой.
- Дались тебе эти клетки...
- Культ или тип религии - ядро.
Культура - мантия.
Общественное устройство - оболочка.
Цивилизация, в которой нет ядра - веры, культа - бессмысленна и обречена. По Замыслу культура и государство должны служить ядру, а не наоборот.
В 1054 году произошёл раскол христианской церкви на восточную и западную. На православных и католиков, а затем и реформаторов - протестантов.
В 1453 году главная православная кафедра перешла из Константинополя в Москву и Филофей сказал свою знаменитую фразу, что Москва отныне -Третий Рим, " а Четвёртого - не бывать".
Финансовая олигархия стала у западной церкви самоцелью. Православная - ещё какое-то время держалась. Смысл православия был во внутреннем /Образ Божий/ самоутверждении человека, а не во внешнем, материальном /счёт в банке/.
"Нельзя одновременно служить Богу и Мамоне", - сказано в Писании.
"Буржуа хочет количественной бесконечности, но не хочет бесконечности качественной, которая есть вечность", - считал религиозный философ Ник.Бердяев.
А Александр Пушкин написал по этому поводу "Сказку о рыбаке и рыбке", где жадная старуха вознамерилась заставить Золотую Рыбку служить ее похоти и быть у неё "на посылках".
Что из этого вышло, мы хорошо знаем.
Церкви, как явления Бога в человеческой истории, которую "Врата ада не одолеют", мы ни в коем случае касаться не будем. Мы будем говорить о церкви, как социальном институте, и о теократическом государстве, то - есть провозгласившем своей целью служение Богу.
Если такая церковь и такое государство, отступив от своего призвания, начинают служить Мамоне, порабощению одних братьев другими, при этом пытаясь освящать свои деяния Божьим Именем, они тем самым "отдают Божье кесарю".
И служат страшным соблазном, результатом которого может явиться отпадение от церкви, хула на Бога, прямое отрицание бытия Божия.
- Тебе скучно, бес? Но без такого исторического, философского и религиозного экскурса нам никогда не разобраться в роли Иосифа в Замысле.
- Ладно, валяй, - прошипел АГ, - можно я покурю?
- Только не дыми в лицо.
Итак, уже при Иване Грозном цари руководили церковными делами и церковь была подчинена государству. Божие отдавалось кесарю.
Один монах тех лет писал с горечью:
"Безумное молчание, истину царям не смети глаголати. Безумное молчание, не смети глаголати истину своим царям"!
В то время возникла легенда о Граде Китеже, раскольники уходили в леса и обличали "царей-антихристов".
При крепостном праве дворяне-помещики были народу уже не "отцами и братьями", а рабовладельцами.
Крепостное право, как и западное вольнодумство, было глубоко чуждо подлинному христианству.
Пропасть между народом и верхами растёт, официальная церковь, за редким исключением, делает вид, что ничего не происходит.
Неудовлетворённые официальной церковностью, в которой всё более ослабевал дух, русские просветители искали истину в масонстве.
Новиков за это получил 15 лет крепости.
Потом - декабристы, всякие тайные общества...
- Страшно далеки от народа, но разбудили Герцена, -фыркнул АГ, -слыхали.
- Герцен - это позже.
А пока происходило страшное - зарождающаяся великая русская литература искала Истину вне церкви, которую отождествляли с несправедливым государством.
Это было своего рода восстание против царской России.
Увлечение Гегелем, Сен-Симоном, Фейербахом, Фурье и, наконец, марксизмом носило во многом религиозный характер.
"Не через Родину, а через истину лежит путь к небу", - сказал Чаадаев, - Теперь страшен не раскол, а общеевропейское безбожие.
Все европейские учёные теперь празднуют освобождение мысли человеческой от уз страха и покорности заповедям Божиим..."
"Если восторжествует свободная Европа и сломит последний оплот - Россию, то чего нам ожидать, судите сами.
Я не смею угадывать, но только прошу премилосердного Бога да не узрит душа моя грядущего царства тьмы."
/из письма игумена Черменецкого монастыря Антония Оптинским старцам/1848/.
- Так что отнюдь не большевики ввели на Руси безбожие.
Оно, как соблазн, пришло с Запада и пало на благоприятную почву недовольства нехристианской сутью государства российского, поддерживаемого православной церковью.
Свидетели? - пожалуйста.
"Поток-богатырь", А.К.Толстого:
И во гневе за меч ухватился Поток:
"Что за хан на Руси своеволит?"
Но вдруг слышит слова: "То земной едет бог,
То отец наш казнить нас изволит!"
Удивляется притче Поток молодой:
Если князь он, иль царь напоследок,
Что ж метут они землю пред ним бородой?
Мы честили князей, но не эдак!
Да и полно уж вправду ли я на Руси?
От земного нас бога Господь упаси!
Нам писанием велено строго
Признавать лишь небесного Бога.
И в другое он здание входит:
Там какой-то аптекарь, не то патриот,
Пред толпою ученье проводит:
Что, мол, нету души, а одна только плоть,
И что если и впрямь существует Господь,
То он только есть вид кислорода,
Вся же суть в безначалье народа.
Итак, поклонение кесарю. Как результат - безбожие.
А сочувствие к угнетению народа, больная совесть элиты привели к идеализации и даже обожествлению народа, то - есть новому идолопоклонству:
И, увидя Потока, к нему свысока
Патриот обратился сурово:
"Говори, уважаешь ли ты мужика?"
Но Поток вопрошает: "Какого?"
"Мужика вообще, что смиреньем велик!"
Но Поток говорит: "Есть мужик и мужик:
Если он не пропьёт урожаю,
Я того мужика уважаю!"
"Феодал! - закричал на него патриот -
Знай, что только в народе спасенье!"
Но Поток говорит: "Я ведь тоже народ,
Так за что ж для меня исключенье?"
Но к нему Патриот: "Ты народ, да не тот!
Править Русью призвАн только чёрный народ!
То по старой системе всяк равен,
А по нашей лишь он полноправен"...
- Прекрасное свидетельство, поздравляю, - прошипел АГ, нещадно дымя серой. - Тут тебе и человекобожие, и атеизм, и идолопоклонство в одном флаконе.
Неужто 1871 год?
- Погоди, ещё не всё:
Тут все подняли крик, словно дёрнул их бес,
Угрожают Потоку бедою,
Слышно: почва, гуманность, коммуна, прогресс,
И что кто-то заеден средою.
Меж собой вперерыв, наподобье галчат,
Все об общем каком-то о деле кричат.
- То есть, "Отречёмся от старого мира, отряхнём его прах с наших ног!"
* * *
"Существуют, - говорит святой Кирилл Александрийский, - следующие три учреждения, от которых зависит благосостояние городов и стран:
царская власть, подчинённые правительственные должности и превластное священство.
Если они пребывают в хорошем состоянии, соответственно каждому из них, то все зависящие от них дела находятся в благоустроенном виде и подчинённые благоденствуют.
Но если они захотят предпочитать превратную стезю и по ней тот час же начнут ходить, то всё придёт в нестроение и как бы в опьянении устремится к погибели.
Как во время боли, поражающей телесную голову, необходимо ей сочувствуют и соболезнуют остальные члены, так и когда начальники уклонились ко злу со склонностью к порокам, подчинённые необходимо развращаются вместе с ними"...
- Постой, тут что-то про масонов. Это уже по твоей части...
Локк, Вольтер, Дидро, Монтескье, Жан-Жак Руссо...
Здесь утверждается, что "Декларация прав человека" 1776 года составлена масонами Джеферсоном и Франклином, а лозунг "Свобода, равенство и братство"...
- А что с лозунгом? Прекрасный лозунг!
- Не мне тебе говорить, сын тьмы, что здесь речь идет о свободе внешней, которая в "лежащем во зле мире" именуется "отвязанностью". Когда всё решает право сильного - безразлично, верхов или толпы.
Следовательно, никакое равенство невозможно, не говоря уже о братстве...
А масонство толкует именно о "Всемирном братстве".
Соединённые Штаты Европы, потом Соединённые Штаты Мира...
Вот твой свидетель, брат Франклин, сказал на 1-м интернациональном Конгрессе масонов в Париже в 1889 году:
"Настанет день, когда народы, не имевшие ни 18 века, ни 1789 года, сбросят узы монархии и церкви.
Этот день уже недалёк, день, которого мы ожидаем.
Этот день принесёт всеобщее масонское братство народов и стран. Это идеал будущего. Наше дело ускорит рассвет этого всеобщего мирового братства".
- Очень красиво! Что тебя не устраивает?
Всемирная революция, всеобщее братство - разве это не христианская идея?
- Такая идея уже была, когда Вавилонскую башню строили.
Всякая дерзновенная коллективная попытка во грехе забраться на Небо - утопия, противоречащая Замыслу.
Никакого "всеобщего братства" на земле быть не может в силу человеческой самости и греховности.
Жатва Господня - это чистая пшеница, а не сорняки:
"И сказал Господь: вот, один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и не отстанут они от того, что задумали делать.
Сойдём же, и смешаем там язык их, так чтобы один не понимал речи другого.
И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город".
/Быт. 11, 5-8/.
Таким образом, каждая нация, каждый народ несет в замысле свою особую функцию, идею, у неё свой язык и свой путь к Небу.
А в день Пятидесятницы, после Вознесения Спасителя, "все они были ЕДИНОДУШНО вместе".
/Речь идёт об учениках Христовых. Подчёркиваю "единодушно вместе", а не "тела вместе", "умы вместе" или "страсти вместе", как чаще всего бывает на земле/.
"И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них.
И исполнились все Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать.
Когда сделался этот шум, собрался народ и пришёл в смятение; ибо каждый слышал их говорящим его наречием".
/Деян. 2;1, 3, 4, 6/
Язык Духа и Святости - вот единый язык Неба.
- А Иосиф? - Разве он не строил это самое "Всеобщее братство"?
- Иосиф-то? Ха-ха-ха! - как бы он сказал.
Иосиф строил Антивампирию и ничего больше.
"Одна, но пламенная страсть".
"Носители государственной власти - враги масонства. Так называемая государственная власть более страшный тиран, нежели церковь", - написано в масонском журнале.
- Да, это не Иосиф, - согласился АГ.
" Только благодаря союзу левых, главной ячейкой которого будет ложь, мы восторжествуем. Мы должны сгруппировать всех республиканцев, радикал-социалистов, коллективистов и даже в союзе с коммунистами выработать программу"
/Брат Дельпаш, речь на конвенте Великого Востока/
- Ваши делишки, АГ?
А раскол православной церкви?
Император Павел Первый и Лефорт были в Голландии приняты в Тамплиеры, начались гонения на православие со стороны масонов-протестантов.
И, наконец, отмена ПАТРИАРШЕСТВА.
Которое, между прочим, восстановил Иосиф.
"Унижая церковь в глазах народа, Пётр рубил один из самых глубинных и питательных корней , на котором стояло, росло и развивалось дерево самодержавия". (Лев Тихомиров "Монархическая государственность".)
- При Екатерине Второй Фармазоны захватили науку в России. Лишь после обличений архимандрита Фотия ложи были закрыты.
И первая волна увлечения революцией:
"Тираны мира! трепещите!
А вы, мужайтесь и внемлите,
Восстаньте, падшие рабы!
Увы! куда ни брошу взор -
Везде бичи, везде железы,
Законов гибельный позор,
Неволи немощные слезы;
Везде неправедная Власть
В сгущённой мгле предрассуждений
Воссела - Рабства грозный Гений
И Славы роковая страсть.
Иосиф очень любил эти стихи. За сто лет до революции написаны, между прочим.
А вы -
"Иосиф, Иосиф"...
Ну и крестьянские волнения, декабристы...
- Почему же ты не напел Иосифу, что идея монархии - часть Замысла?
- Потому что это вовсе не так, - заявил АХ.
Даже Иоанна в тесном своём убежище дёрнулась от удивления.
А АГ пустил такой клуб серного дыма, что закашлялся.
И Яна снова оказалась в осени сорок пятого года

Фасоля.
* * *
Осень сорок пятого. Наш первый "Б". Латаный, штопаный, перелицованный, с холщовыми и брезентовыми сумками (редко у кого портфельчик), а в сумках чего только нет!
Гильзы от патронов, а то и настоящие патроны, трофейные губные гармошки, заводные лягушки, куски подсолнечного и макового жмыха - лучшего лакомства нашего детства.
Я и Люська по очереди лезем под парту мусолить огромный, твердый как камень кусище, выменянный только что на мой альбом для рисования.
Учительница пения Фасоля (то ли от Фа-соль-ля, то ли оттого, что волосы надо лбом она укладывает тугой белесой фасолиной) аккомпанирует на гитаре.
Пианино в школе нет, а гитара хоть и считается мещанским инструментом, зато гораздо легче баяна, с которым Фасоля не справляется, потому что она перенесла блокаду и очень ослабела.
Я не ленинградка и представляю себе блокаду чем-то вроде непосильно тяжелой бетонной плиты, которую согнувшись несет на себе наша Фасоля.
Говорят, что теперь Фасоля немного не в себе.
Все свободное время она мастерит из разноцветных лоскутов и обрезков меха забавные куколки, фигурки птиц и зверей, но не на продажу ( говорят, что тогда бы Фасоля могла как сыр в масле кататься).
Это бы все поняли. И все бы поняли, если б она просто дарила ребятам зверюшек. Продавала - для выгоды, дарила - из-за доброты. Всё было бы понятно.
Но Фасоля не была ни доброй, ни корыстной, она была не в себе - это было ясней ясного.
Дважды в неделю она устраивала у себя дома сольный концерт.
Надевала черное узкое платье с глубоким вырезом, туфли на высоких каблуках, тщательно причесывалась, зажигала на стареньком пианино свечи и по два-три часа играла Шопена, Чайковского, Бетховена, Моцарта...
Те взрослые, кому случайно удалось ее послушать, говорили, что играет она замечательно, однако взрослых она никогда не приглашала на эти концерты.
Только нас, ребят.
Хотя, понятно, что уж, конечно, не Бетховен и Гайдн привлекали первоклашек, а эти самые зверюшки, которые Фасоля дарила каждому после концерта.
Она даже не скрывала, что потому и гнется ночами над игрушками, чтобы заманить нас к себе.
"Они хотят научиться любить и понимать серьезную музыку, - говорила Фасоля. - А такое желание достойно вознаграждения.
Я уверена, - наступит день, когда они откажутся от этих безделушек и скажут:
"Дорогая Антонина Степановна... "
Но такой день всё не наступал - кому была охота отказываться от "фасолят", когда за каждого зайца можно было получить коробку цветных карандашей, несколько стаканов семечек или кататься в парке на карусели, пока не затошнит?
- Мы белые снежиночки,
Спустилися сюда,
Летим мы как пушиночки,
Холодные всегда,
- тянет класс под аккомпанемент фасолиной гитары.
Мы с Люськой по очереди мусолим под партой жмых.
- Синегина, я всё вижу. Ну-ка, иди сюда. И ты, Новикова. Сейчас я отстучу мелодию.
Т-сс, слушают все...
Тук-тук-тук, тук-тук, тук-тук-тук...
- Ну, Синегина?
Молчу, изображая интенсивную работу мысли.
Люська, страдальчески морщась, просится в туалет.
Класс хохочет.
- Тс-с... Ладно, Новикова, иди.
Ну, Синегина?
- "Катюша", - наобум говорю я.
Ужасно хочется отпроситься вслед за Люськой, но это, разумеется, нереально.
- Ничего похожего на "Катюшу". Кто угадал?
- "Где ж вы, очи карие"? "Варяг"? - галдит класс.
- При чем тут "Варяг"? Да вы послушайте...
Тук-тук-тук, тук-тук, тук-тук-тук...
Мы молчим.
- "Николай, давай закурим", - вдруг изрекает с задней парты второгодник Седых Валька.
- В чем дело, Седых?
- Спички есть, бумаги купим, - не унимается Валька.
Мы гогочем.
- Прекрати безобразничать, Седых.
- Так то ж вы отстучали, - обиженно басит Валька, - "Николай, давай закурим!"
Класс веселится.
- Ох, ну конечно же... Да перестаньте вы, Валя прав.
Верно, есть такие слова на музыку "Барыни". Валя угадал правильно.
Я отстучала русский народный танец "Барыня". Молодец, Седых!
Когда Фасоля радуется, то становится какой-то прозрачно-розовой - так бывает, когда ладонь приближаешь к лампе.
Смотрит Фасоля на второгодника Вальку и вся светится.
А второгодник Валька глядит на нее, а лицо его - эдакий непробиваемый для педагогов кремень - постепенно оживает, расплывается в улыбке до ушей.
И, звонко щелкнув по лбу соседа своего Секачева, чтоб кончал смеяться, Валька костяшками пальцев сам что-то барабанит по парте.
- Сед-ы-ых, - благоговейно шепчет Фасоля.- Да это же... Да ты же...
И тоже барабанит нечто, понятное лишь Вальке, Валька отвечает ей.
Опять Фасоля...
Мы недоуменно переглядываемся.
Мелодия из "Севильского".
Завтра, много лет тому назад, Фасоля сыграет ее снова, уже на своем пианино.
- Вот, ребята, что вчера отстукивали мы с Валей. Верно, Валя?
И гордо кивнет второгодник Седых, и впервые я буду слушать Фасолю.
Не слышать, а слушать.
Потому что обидно: уж если второгодник Седых что-то понимает...
Ухвачусь за звуковую нить и буду распутывать, распутывать. И неожиданно нить пойдет мотаться сама, подчинит, завертит, закружит..
Я еще буду сопротивляться, раздваиваясь между привычно-обыденным "здесь" и ошеломляющим "там", новым "там".
"Здесь" - это сижу на стуле нога на ногу, полуботинок навырост покачивается на большом пальце, рядом простуженный Кротов сопит, покашливает, чудачка Фасоля смешно размахивает над клавишами руками и закатывает глаза.
"Там" - нет ни грязного полуботинка, ни простуженного Кротова, ни нелепых Фасолиных гримас, ни меня самой.
Просто это "там", его никак не назовешь, не объяснишь.
Что-то поет, дрожит, ликует, страдает, плачет, взлетает, падает.
И это "что-то" - я сама.
Через пару вечеров я окончательно сдамся.
Буду считать часы от концерта до концерта, хоть и по-прежнему посмеиваться над Фасолей.
Тайная страсть к ее концертам будет представляться мне чем-то постыдно нелепым. Я буду из всех сил стараться, чтобы ребята ее не обнаружили и не подняли меня на смех.
И потом очень долго, уже когда Фасоля исчезнет, буду связывать музыку с нею и только с нею.
Даже по радио слушать лишь то знакомое, что играла нам она.
Наверное, она была действительно замечательной пианисткой.
И, наверное, не одна я "заболела" ее концертами.
Но никто никогда в этом не признается. По-прежнему мы будем уносить в карманах ее мышей и зайцев.
И Фасоля будет думать...
Так я никогда не узнаю, что она обо всём этом думала.
Скоро, много лет назад, Фасоля исчезнет. Отыщется где-то какой-то там дальний родственник, и когда мы вернемся в школу после каникул, к нам придет новый учитель пения.
С баяном.
Пианино Фасоля продаст Аллкиной матери, и мы все будем учиться на нем играть.
Алкина мать - "Полонез" Огинского, Аллка - "Легко на сердце" одной рукой, а я - вальс "Березка" одним пальцем.
- Прилечь на землю хочется,
Но ветерок-злодей
Всё гонит, подгоняет нас,
И мы летим быстрей...
Люська так на урок и не вернулась.
В окно вижу её - играет с какой-то девчонкой в "нагонялы". Мучаюсь завистью, ревностью и вгрызаюсь зубами в жмых.
Хоть так отомщу, ничегошеньки не оставлю...

Нет монархии в Замысле!
На фото - расстрел демонстрации в Питере.
* * *
ПРИСУТСТВОВАЛИ:
АГ(Ангел-губитель),АХ(Ангел-Хранитель), Иоанна, тётя Клава,билетёрша.
СВИДЕТЕЛИ:
В,А,Жуковский, поэт, Николай Бердяев - философ и мыслитель, Константин Леонтьев - писатель и публицист. Карл Маркс - основоположник, Фёдор Достоевский - классик, Михаил Бакунин - анархист, Владимир Ульянов - гениальный мыслитель и вождь, Моисей Гесс, Пьер Прудон - социалист, экономист, анархист, Флоренс - парижский коммунар, Фридрих Энгельс - основоположник.
- Как это "монархии нет в Замысле"? - спросил изумлённый АГ, прокашлявшись.
- Свидетельствует Первая Книга Царств, глава 10. Внимай, сын тьмы:
" И созвал Самуил народ к Господу в Массифу
И сказал сынам Израилевым: так говорит Господь, Бог Израилев: Я вывел Израиля из Египта, и избавил вас от руки Египтян и от руки всех царств, угнетавших вас.
А вы теперь отвергли Бога вашего, Который спасает вас от всех бедствий ваших и скорбей ваших, и сказали Ему: царя поставь над нами.
/10, 18-19/
Но я воззову Господа, и пошлёт Он гром и дождь, и вы узнаете и увидите, КАК ВЕЛИК ГРЕХ, который вы сделали пред очами Господа, прося себе царя.
И воззвал Самуил к Господу, и Господь послал гром и дождь в тот день;
И пришёл весь народ в большой страх от Господа и Самуила.
И пересказал Самуил все слова Господа народу, просящему у него царя,
И сказал:
вот какие будут права царя, который будет царствовать над вами: сыновей ваших он возьмёт, и приставит к колесницам своим, и сделает всадниками своими, и будут они бегать пред колесницами его.
И поставит их у себя тысяченачальниками и пятидесятниками, и чтобы они возделывали поля его, и жали хлеб его, и делали ему воинское оружие и колесничный прибор его.
И дочерей ваших возьмёт, чтоб они составляли масти, варили кушанье и пекли хлебы.
И поля ваши виноградные и масличные сады ваши лучшие возьмёт и отдаст слугам своим.
И от посевов ваших и из виноградных садов ваших возьмёт десятую часть и отдаст евнухам своим и слугам своим.
От мелкого скота вашего возьмёт десятую часть; и сами вы БУДЕТЕ ЕМУ РАБАМИ и восстенаете тогда от царя вашего, которого вы избрали себе; и не будет Господь отвечать вам тогда.
/8, 11-18/
- Так что лучший вид правления по Замыслу, как понял Иосиф, - прямое подчинение Богу. О чём мы просим в молитве: "Да будет воля Твоя на земле, как на Небе".
Но народ грешен и боится Света, чтобы не обличились злые дела его, и потому предпочитает быть рабом у такого же грешного царя - вампира.
И ещё запомнил Иосиф:
"Если же вы будете делать зло, то и вы и царь ваш погибнете".
/12, 25/
Богу угоден лишь царь, служащий Замыслу - умножению жатвы Господней, а не заставляющий подданных служить СЕБЕ и своим вассалам. Да где ж такого возьмёшь!
Свидетель Чацкий по этому поводу вздохнул:
"Служить бы рад. Прислуживаться тошно!"
- Ладно, кончай митинговать, - проворчал АГ, дымя серой. - Давай моих свидетелей, а то у тебя что-то все революционеры с нимбами...
- Погоди, я по порядку. Надо же разобраться.
Свидетель В.А.Жуковский:
"Реформация разрушила духовный, доселе нетронутый, авторитет самой церкви, она взбунтовала против её неподсудности демократический ум; дав проверять откровение, она поколебала веру, а с верой и всё святое".
Правда, по этому поводу - одно уточнение.
"Проверять откровение" - кощунство и грех великий, на этом Толстой и споткнулся.
Однако свидетель Бердяев вполне справедливо отметил:
" Когда церковь, как объективация и СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ, признаётся святой и социально непогрешимой, то начинается идолотворение и работворение человека".
Потому что в этом случае все грехи и несправедливости священнослужителей в сознании прихожан как бы связываются с Богом.
А в "такого Бога" они перестают верить.
Свидетель Константин Леонтьев:
"Вместо христианских загробных верований и аскетизма явился земной гуманный утилитаризм, заботы о всеобщем практическом благе.
Христианство же настоящее представляется уже не божественным, в одно и то же время отрадным и страшным учением, а детским лепетом, аллегорией, моральной басней, детальное истолкование которой есть экономический и моральный утилитаризм".
"Ты утаил сие от мудрых и разумных и открыл то младенцам".
/Мф. 11, 25/
- Вот уж воистину так, - вздохнул АХ, - Кончай дымить, сын тьмы, твои свидетели пошли... Тут материалы по Первому Интернационалу.
Свидетель Маркс Карл:
"Принимая во внимание, что для социалиста вся так называемая история мира означает не что другое, как творчество человека, созидание его рукой, и развитие природы для человека, он, тем, самым, обладает бесспорным доказательством того что и родился он сам из себя..."
- Круто! - захлопал в ладошки АХ, - Значит всякий, кто построил дом и посадил вокруг смородину, может считать, что сам себя родил... Замечательно.
А дальше-то, дальше:
"Человек является высшим существом для человека"...
" Коммунисты не проповедуют морали..."
"Вследствие мировой войны исчезнут не только реакционные классы и династии, но также и реакционные народы будут стёрты с лица земли. И это будет большой прогресс. Они навсегда будут забыты".
- Вот тебе и Замысел, - хихикнул АГ, - был народ и нету. На помойку его, реакционного!
А реакционный - это какой?
- Да в Бога верующий, а не в "человекобога".
Как свидетель Достоевский сказал в "Бесах":
"Будет богом человек и переменится физически. И мир переменится, и дела переменятся, и мысли, и все чувства.
Мир заполнит тот, кому имя человекобог".
- "Богочеловек?" - переспрашивает Ставрогин.
- "Человекобог, - отвечает Кириллов, - В этом разница".
- А в чём, собственно, разница? - пожал плечиками АГ.
- Как между слившейся с Океаном каплей, тоже ставшей Океаном, и каплей дождя на шляпе, которая кричит, что она океан.
* * *
Свидетель Михаил Бакунин:
"Дьявол - это сатанинский бунт против Бога, авторитета, бунт, в котором мы видим благородный зачаток всей человеческой эмансипации - революции.
Социалисты узнают друг друга по словам: "во имя того, кому причинили несправедливость".
Дьявол - первый вольнодумец и спаситель мира: он освобождает Адама и ставит печать человечности и свободы на его челе, сделав его непослушным."
- Ну, что скажешь, Позитив?
- Тоже печальный результат неверной социальной политики церкви плюс дремучее невежество в вопросах христианства.
Так что не совсем прав товарищ Бакунин, - вдруг заговорил почему-то АХ голосом одной дамы из Госкино. - И прочие сатанисты не совсем правы.
Свобода была дарована запретным древом в раю, которое насадил Сам Творец и предупредил: "Не ешь, смертию умрёшь"... Полная свобода, выбирай.
А хозяин твой, Князь тьмы, просто солгал:
"Съешь, не умрёшь, но будешь, как Бог". Мол, не прыгай с десятого этажа, разобьёшься, - экий деспот!
А другой, душка-либерал - "Прыгай, ты свободен, полетишь!.." Ну и всмятку.
С тех пор большинство товарищей так и понимает свободу - есть запретный плод, полагая, что он не ядовит. Ну и всмятку. И на кладбище.
- Все там будут, - вставил АГ, - Летай иль ползай. У нас стопроцентная смертность.
- Не придуривайся, сын тьмы. Я о смерти второй и вечной. Я о плевелах.
- Ладно, поправка принята.
Тут ещё свидетель Михаил Бакунин:
"В этой революции нам придётся разбудить дьявола в людях, чтобы возбудить самые низкие страсти.
Наша миссия состоит в том, чтобы разрушать, а не строить. Страсть разрушения - это творческая страсть."
- "А он, мятежный, просит бури...", "Буря бы грянула, что ли, чаша с краями полна...", "Пусть сильнее грянет буря!" Сговорились они, что ли?
В затхлом болоте всеобщей духовной погибели это естественная реакция внутреннего компаса - смахнуть разом со стола всю шахматную доску, только не продолжать эту кромешную гибельную игру...
Вот и Иоанна наша мечтала о землетрясении, чтоб вся эта "перестройка"...
Иоанна съёжилась у себя меж стульев, затаила дыхание.
А АХ продолжал, как ни в чём не бывало:
- Будет ещё буря, ребята, всё будет.
Только одни катарсиса хотят, очищения, другие - справедливости, чтоб жить посытней, третьи - золота, крови и баб...
А дьявола что будить, товарищ Бакунин, - он вообще не спит никогда.
Верно, АГ?
- Погоди, тут "наш человек" в чистом виде. Крупный социальный мыслитель Прудон. Между прочим, друг Маркса.
Тот самый, который весьма справедливо сказал, что "Всякая собственность - кража".
Но в труде "О правосудии и революции в церкви" товарищ Прудон призывает Сатану, то есть хозяина моего, якобы "оклеветанного низкими царями", "править на земле бал".
Будто здесь кто-то другой этот бал правит!
Вот уж воистину кто-то умный сказал, что величайшее достижение сатаны в том, что он заставил нас забыть о своём существовании!
Даже я, щадя чувства оппонента, не дерзну приводить цитату полностью.
Скажу лишь, что мыслитель этот упрекает Творца в "лицемерии, фальши, тирании, нищете. Борьбе против культуры, свободы, человека. В безумии и трусости".
Мыслитель договаривается до того, что "Вопреки Ему мы овладеваем знанием, достигаем благополучия и союзов. Каждый шаг - это победа над Божеством".
"Человечество, слуга царя и священников, будет проклято везде, где человек склонится перед алтарём".
- Да, неплохо поработало ваше ведомство, - вздохнул АХ, - Надо же всё так перевернуть с ног на голову!
Я уж не знаю, что за порядки были в церкви, к которой принадлежал мыслитель Прудон, но похоже, что бунтарь вообще ни разу не открывал Писание.
Человек плох, слов нет, потому что подчинился твоему хозяину, АГ, и преступил все заповеди, а Прудон призывает сатану же его исправлять!
- Вот именно! - довольно хихикнул АГ, - Таковы они, ваши революционеры.
- Нет уж, разбираться так разбираться...
Такая дикая богохульная реакция - прежде всего результат отпадения от Истины церкви западной, если отвлечься от классической бесноватости данного мыслителя.
Который, не давая себе труда "отделить пшеницу от плевел", валит всё в одну кучу, сам же придумывает себе бога и сам же его ниспровергает...
У нас тоже таких "богоборцев" хватало.
Но мы здесь с одной-единственной целью - разобраться, ибо судить будет Сама Истина.
А твой хозяин - великий путаник, его основное оружие - хитрая подмена понятий и путаница, которыми он прикрывает прямую ложь.
На то он и змей, "хитрее всех зверей полевых".
Поэтому истинные сатанисты - это те, кто, имея подлинное ведение о Боге, отвергают Его сознательно, как Путь, Истину и Жизнь.
Есть дерзкие богохульцы, которые, не дав себе труда вникнуть, вводят других в соблазн своими лживыми несправедливыми речами.
А если, к тому же, это напечатано, то веками работает против автора, хотя автор давным-давно покинул землю, как твой Прудон...
-Отдал, значит, Прудона? - прошелестел довольный АГ.
- Или этот... Флоренс. Парижский коммунар:
"Наш враг - это Бог. Ненависть к Богу - начало мудрости".
Тоже, держу пари, в Писание не заглядывал... Но мне что, у них свои Ангелы-Хранители, пусть хлебают.
Я к тому, сколько галиматьи попадало к нам с Запада, в том числе и к Иосифу.
Читать он, надо сказать, любил. Но и размышлять любил...
- Да уж, всяких там Марксов-Энгельсов...
- А вот Энгельса не тронь. У меня тут прекрасное свидетельство имеется из его работы "Шеллинг - философ во Христе или Преображение мирской мудрости в мудрость божественную".
Одно название чего стоит, правда?
"Со времён ужасной французской революции совершенно новый дьявольский дух вселился в значительную часть человечества. И безбожие столь бесстыдно и надменно поднимает свою наглую голову, что приходится думать об исполнении в настоящее время пророчеств Писания"...
- Стараемся. Но ты что-то путаешь, опять не ту ленту подклеили.
- Ту, я проверял.
"Это уже не равнодушие и холодность к Господу: нет, это открытая, явная вражда. И вместо всяких сект и партий мы имеем теперь только две: христиан и противников Христа...
Мы видим среди нас лжепророков, и даны им уста, говорящие гордо и богохульно...
Они странствуют по Германии и хотят украдкой всюду проникнуть, проповедуя свои сатанинские учения на рынках и переносят дьявольское знамя из одного города в другой, увлекая за собой бедную молодёжь, чтобы ввергнуть её в глубочайшую бездну ада и смерти".
- Ничего не понимаю. И это - автор "Манифеста", где чёрным по белому:
"Коммунизм же отменяет вечные истины, он отменяет религию, нравственность..."
- Парадокс.
Далее там ещё из "Откровения": "Се гряду скоро. Держи, что имеешь, дабы никто не восхитил венца твоего!"
Энгельс, кстати, сделал весьма любопытное пророчество:
"Демократическая, красная, даже коммунистическая чернь никогда не будет любить нас".
Информация к размышлению. "Мир любит своё"...
Он же сказал: "Всеобъемлющая любовь к людям является абсурдом".
Свидетель Моисей Гесс: "Красный катехизис для немецкого народа":
"Что черно? Черно духовенство. Эти богословы - худшие аристократы...
Поп, во-первых, учит князей порабощать людей во славу Божию.
Во-вторых, он учит народ позволять порабощать себя во имя Бога.
В-третьих, и главным образом, он обеспечивает себе, с Божьей помощью, привольную жизнь на земле, тогда как людям рекомендуется ждать её на небе"...
Заметь, здесь говорится уже не о Писании, а о социальной политике церкви.
Думается, эта точка зрения наиболее близка Иосифу.
Не могу удержаться, чтобы не процитировать ещё раз Писание:
"Главы его судят за подарки и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги, а между тем опираются на Господа, говоря: "не среди ли нас Господь? Не постигнет нас беда!"
Посему за вас Сион будет распахан как поле, Иерусалим сделается грудою развалин, и гора Дома сего будет лесистым холмом"
/Мих. 3, 11-12/
Это пророчество наверняка прочёл Иосиф!
А вот ещё тот же Гесс:
"Бесполезно и безрезультатно поднимать людей к исторической свободе и ДЕЛАТЬ ИХ СОУЧАСТНИКАМИ В ДЕЛЕЖЕ БЛАГ СУЩЕСТВОВАНИЯ, не освободив их от духовного рабства, т.е. религии".
Под "исторической свободой" тут понимается "делёжка благ существования".
-Свидетель Владимир Ульянов /Ленин/. Пожалуй, наиболее характерный случай атеизма сознательного:
"Атеизм является неотъемлемой частью марксизма. Марксизм - это материализм, мы должны бороться с религией, так как это азбука каждого материалиста, а поэтому и марксиста".
Непонятно, но категорично.
Вл. Ленин Горькому:
"Миллион грехов, пакостей, насилий и зараз физических гораздо легче раскрываются толпой и потому гораздо менее опасны, чем тонкая, духовная, приодетая в самые нарядные идейные костюмы идея боженьки".
- В Бога-то Ильич не верил, а вот в хозяина нашего, кажется...
Не то, чтоб верил, но прозревал:
"Государство в наших руках, а действовало ли оно в этот год, в новой экономической политике по-нашему?
Нет, этого мы не хотим признать: оно действовало не по-нашему.
А как оно действовало?
Машина вырывается из рук: как будто бы сидит человек, который ею правит, а машина едет не туда, куда её направляют, а туда, куда направляет кто-то.
Машина едет не совсем так, а очень часто совсем не так, как воображает тот, кто сидит за рулём этой машины".
А на смертном одре вождь-атеист и вовсе говорил замечательные вещи:
"Я сделал большую ошибку.
Меня преследует чувство, как будто я потерялся в океане из крови бесчисленных жертв... Но для нас дороги обратно нет.
Чтобы спасти Россию, нам нужны такие мужи, как Франциск Ассизский.
Десять человек таких, как он, и Русь была бы спасена".
- В связи с этим вспомнилась цитата из Сергия Булгакова /"На пиру богов"/:
"Не понимаете, что между большевиком и Пушкиным больше таинственной, иррациональной, органической связи, нежели между ним и чаадаевствующими ныне от растерянности или немцем треклятым, грабящим по всем правилам военного искусства?
Большевиком может оказаться и Дмитрий Карамазов, из которого, если покается, выйдет впоследствии старец Зосима.
А из колбасника что выйдет?"
Вдали в Вечности что-то гулко ухнуло, пронзительно засвистела в свисток тётя Клава.
- Это ещё что? - встревожился АХ.
- Пушка на Сенатской грохнула. Теперь декабристы наверняка Герцена разбудят...
Вспыхнул свет, и Иоанна снова оказалась в детстве.

Велосипед.
* * *
Девочку звали Маней.
Была она неестественно белокожей, вытянувшейся в длину, как картофельный росток. Казалось, дунь - закачается, согнётся пополам.
Но мы уже знали: это впечатление, ох, как обманчиво!
Дралась Маня по-страшному, всерьёз, так у нас даже мальчишки не дрались.
Нам объяснили, что Маня два года пробыла в немецком концлагере, где, чтобы выжить, детям приходилось сражаться за каждую крошку хлеба.
Вот она и получилась такая. Это у неё душевная травма.
И чтоб мы это понимали и имели к Мане особый подход.
Ещё была у Мани одна странность - она никогда не улыбалась.
Даже когда "Волгу-Волгу" показывали, ни разу не улыбнулась.
Вообще с середины встала и ушла.
Такая она была, Маня. Вдруг ни с того ни с сего, когда игра и всем весело, - возьмёт да уйдёт. И на уроках - то ничего, пишет, считает, а то как замолчит, ничего с ней не сделаешь.
Учителям остается только не обращать внимания.
По возрасту Мане пора было в третий, а её посадили в первый. И мы радовались, что в "А", а не в наш "Б", потому что лупила.
В майский погожий день сорок шестого, в годовщину Дня Победы, шефы Мани привезли ей в подарок велосипед.
Над Маней шефствовал целый завод. Однажды про неё поместили статью в городской газете - что она разучилась улыбаться, что столько пережила в фашистском плену.
Что манина мать осталась на всю жизнь инвалидом и находится в больнице.
С тех пор и появились шефы.
Посреди школьного двора стояла Маня, вцепившись одной рукой в руль, другой в сиденье, молчала и дико озиралась.
Хоть бы спасибо сказала! Велосипед!..
Настоящий, не какой-то там подростковый.
Чудо чудное, диво дивное сверкало на майском солнышке всеми своими хромированными деталями. Звонок, кармашек с ключами, фонарик - с ума сойти!
Я даже дышать боялась, стискивая локоть стоящей рядом Льськи.
А Люську мою прямо-таки перекосило от зависти.
Вырвав руку, она мелкими лисьими шажками подкралась к шефам и, заглядывая им в глаза, промурлыкала:
- Дядечка-а...А нам мо-ожно покататься?
На лицах столпившихся вокруг ребят был тот же немой отчаянный вопрос. Шефы, два паренька с модно подвитыми чубами, растерянно переглянулись.
- В общем-то...Что тут такого? Маня вам разрешит, конечно...
А, Мань, дашь ребятам прокатиться?
Даст она, как же!
Маня молчала, но лицо её говорило выразительнее всяких слов - пусть-ка кто попробует коснуться её велосипеда!
Убедившись, что желающих пробовать не нашлось, Маня потащила велосипед за ворота. Оглядываясь и угрюмо сопя, - как зверь добычу.
Шефы сконфуженно развели руками и поспешили ретироваться в столь трудной педагогической ситуации.
- Вот кабы вместе... - процедила сквозь зубы Люська, - Как бы ей да-ать!
Но сознательные наши ребята Люську не поддержали.
- А ну её! У ней судьба трудная, пусть себе...
- Жадина-говядина! Жадина-говядина! - верещали менее сознательные девчонки.
Несколько дней мы будем со злорадством наблюдать за бесплодными попытками Мани укротить свой велосипед.
Он будет брыкаться, сбрасывать её, как норовистый конь.
А она, длинная, нелепая, вся в синяках и ссадинах, будет снова и снова карабкаться на него и снова хрустко /ведь одни кости/ шмякаться оземь.
Первыми не выдержат мальчишки.
Выудят Маню мокрую, грязную, оглушённую, из наполненной талой водой канавы, выправят погнутый руль, втащат на велосипед и примутся учить кататься.
Маня будет неподвижно торчать в седле.
Прямо, словно аршин проглотила, словно Дон Кихот на своём Росинанте. А мальчишки вокруг, шумные, запыхавшиеся, весёлые Санчо-оруженосцы, будут катать её по дороге, со всех сторон поддерживая велосипед, не давая упасть.
- Да не сиди ты, как припаянная, педалями верти!.. За руль не держатся, его самой надо держать. Так, так...
Да поворачивай ты, тюря!.. Поворачивай...
А ещё через несколько дней, много лет тому назад, наступит июнь.
И мне повстречается манин велосипед на уже просохшей дороге.
Она будет ехать сама, отчаянно тренькая звонком, а сзади, на багажнике, свесив ноги, будет колыхаться один из "ашников".
Я покажу Мане язык.
А она покатит мимо, невидяще блестя глазами и зубами в младенчески-первой своей улыбке.
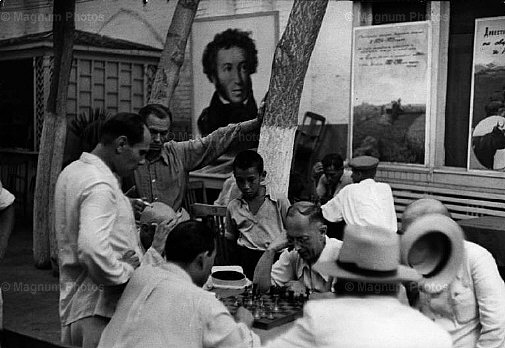
Капитан Гвоздёв услышал взрыв.
* * *
Солнце льётся откуда-то сверху помещения. Над головой танцкружок разучивает "Бульбу", отчего о потолка срываются и тоже пляшут в солнечном луче пылинки. Таинственно пахнет книгами. Их вокруг десятки, сотни. Солнце, книги и пылинки, пляшущие в солнечном луче.
- Выбирай, - сказала библиотекарша Галя, давняя мамина подруга.
Как тут выберешь? Стоят на полках неизведанные миры-планеты. В драной авоське потащит Яна домой города и страны, горы, реки и леса. Потащит добрых и злых героев и всякие там волшебные лампы, скатерти-самобранки да ковры-самолёты.
А потом - с ногами в отцовское кресло, поближе к печке, в свободной руке натёртая солью хлебная корка...
Глотать страницу за страницей, заедая чудеса хлебной корочкой.
А от печи теплынь - подкинешь полешко, весело запляшут на стене рыжие отблески-петухи. Серебристо синеет разрисованное морозом окошко, гудит печка, и до прихода матери надо бы успеть вместе с Элли и её друзьями добраться до Изумрудного города.
Яна выбирает книги.
Пляшут доски на потолке, кружатся пылинки, страницы, имена героев, картинки - одна другой заманчивей, и уже голова кругом.
- Стихи хочешь?
Яна мотает головой. Стихи она не признаёт.
-А ты прочти-ка:
- Пред ним живая голова,
Огромны очи сном объяты,
Храпит, качая шлем пернатый,
И перья в тёмной высоте,
Как тени ходят, развеваясь,
В своей ужасной красоте
Над мрачной степью возвышаясь.
Конечно, бывают на свете стихи - "Уронили мишку на пол", "В лесу родилась ёлочка", "Как много девушек хороших".
Стихи - чтоб петь, заучивать наизусть - стихами легче заучивать.
Но книжки в стихах - ерунда, это всё штучки взрослых.
Вроде как водили их всем классом в театр - так там на сцене не разговаривали, как люди, а пели друг другу, вообще ничего не поймёшь.
Никому не понравилось, только ждали, когда можно будет в буфет.
Но тут...
Яна читает и видит спящую голову, развевающиеся в тёмном небе перья шлема, пустынную степь.
И ползут по затылку мурашки, хотя вроде бы пока страшного нет.
И, сморщась, голова зевнула,
Глаза открыла и чихнула...
Поднялся вихорь, степь дрогнула,
Взвилася пыль, с ресниц, с усов,
С бровей слетела стая сов...
Всё видит Яна, будто кино смотрит.
Дрогнувшую степь, вспорхнувших с бровей птиц. Слышит чихнувшее вслед за головой эхо, ржанье испуганного коня...
- Пушкин, "Поэмы". Ладно беру.
- Но ты ведь не любишь стихов, - улыбается Галя.
- Это не стихи, а поэмы.
"А голова ему вослед, как сумасшедшая, хохочет,
Гремит: "Ай витязь! Ай герой! Куда ты? Тише, тише, стой!
Эй, витязь, шею сломишь даром; не трусь, наездник, и меня
Порадуй хоть одним ударом, пока не заморил коня..."
- Разве так разговаривают? - поддразнивает Галя, - Написал бы просто, - "И сказала голова витязю: куда ты, мол, глупый, прёшь? Шею сломаешь". - Просто и понятно.
Мама была жаворонком, Яна - совой.
Она поняла это лишь потом, а тогда никак не могла уразуметь, почему мать так мгновенно легко вскакивает в любую рань, даже когда за окном темень и мороз, и печка остыла за ночь.
Нос-то высунуть из-под одеяла страшно, веки невозможно разлепить, а при мысли, что надо встать, одеться, умыться ледяной водой и бежать в школу, мечтается о кори или коклюше - вот уж она отсыпалась!
А мама в это время невесомо проносится то к печи с охапкой дров, то на кухню, откуда уже аппетитно пахнет жареной с луком картошкой.
И успевает сделать несколько гимнастических упражнений по радио, растереть докрасна тело шерстяной рукавичкой, плавающей в тазу с той самой ледяной водой...
Зато вечером...
- Яна, я гашу свет.
- Да ещё и десяти нет!
- Я устала.
И всё. Щелчок, темнота. На самом интересном месте приходится закрыть книжку, а сна ни в одном глазу.
Мозг, воображение работают вовсю.
И бессильная злость на маму, с койки которой уже доносится посапывание.
С этой злости всё и начнётся.
Ах, ты так? Но я тебя всё равно перехитрю!
И долгими зимними ночами Яна будет придумывать то, что не успела прочесть. А потом сверять с подлинником.
Это будет чудесная увлекательная игра.
Потом рамки игры начнут сковывать - её герои будут всё более дерзко отстаивать свою независимость.
Тогда она станет сочинять собственные истории. Ночью, по дороге в школу и из школы, вечером у печки.
Длинные, с продолжением, и короткие, в несколько предложений.
Потом ей понадобятся слушатели.
Она будет ходить, окружённая малышнёй, и пичкать их королями, принцессами и ведьмами.
Пока Андерсен не научит её, что можно сочинять сказки про самое обычное - про швейную иглу, спички, посуду.
Аудитория её будет расширяться, но никому Яна не признается, что сама придумывает эти байки.
Мол, прочла в старой книге без титульного листа, найденной на чердаке.
Вот и всё.
И придёт день, когда она решится записывать.
Нет, разумеется, не эти пустячки про бездомного щенка Кузю, который попадает в Великое Собачье царство, и не про приключения улетевшего воздушного змея.
Нет, она решит написать серьёзный рассказ о войне.
Возьмёт ручку, чернильницу, чистый лист бумаги. И задумается.
Пусть её героем будет... ну, к примеру, капитан.
Надо придумать фамилию этому капитану.
Яна огляделась. Стол, стул, окно, стена.
Из стены торчит гвоздь.
- Ма, бывает фамилия "Гвоздев"?
- Бывает. Фамилия как фамилия.
"Капитан Гвоздев услышал взрыв" - напишет Яна, и...
Тонкая верёвочка-строчка, а дальше - пустота, пропасть.
Страшная белизна листа.
Пустота - в ней самой.
Яна позорно сбежит, бросив несчастного Гвоздева в печь.
Панический страх перед чистотой бумажного листа завязнет в памяти, как осколок этого самого снаряда, взорвавшегося неподалёку от злополучного капитана.
* * *
Ещё она вернулась в памятный день 47-го, накануне Первомая, ехала вместе с другими ребятами в маленьком тряском автобусе.
Всё в этот день было удивительным - и то, что Яне досталось счастливое место у окна с выбитым стеклом.
И ветер из этого окна, пахнущий то лесом, то бензином. И огромная священная площадь.
И дети, дети, необычно серьёзные и оробевшие от сознания важности происходящего.
- Р-равняйсь! Смир-рно!
Яна, как во сне, видит зеркальную, будто только что вымытую брусчатку, мавзолей с застывшими часовыми, разукрашенные к празднику трибуны.
-На первый-второй р-рас-считайсь!
Первые номера - шаг впер-рёд! Р-раз, два!
И больше не видно зеркальной брусчатки - перед глазами - стриженый затылок Почивалова, заштопанный воротничок его белой рубашки.
Яна вытягивает шею, но уже один за другим, будто по линейке, прочерчивают площадь до самых трибун ряды белых рубашек, стриженых затылков и косичек с разноцветными бантами. Яна оглядывается - сзади площадь также линуют двигающиеся с Охотного ряда колонны.
Будто кто-то пишет ровные строчки на листе! Ниже, ниже, до самого нынешнего ГУМа.

Вход к Богу с чёрного хода.
Присутствовали:
АГ - Ангел-Губитель, АХ - Ангел-Хранитель, Иоанна.
Свидетели:
Фёдор Тютчев - поэт и дипломат, Иван Тургенев - классик,Иван Киреевский - публицист и философ,Виссарион Белинский - критик и публицист, Николай Бердяев - философ, Нечаев - террорист и нигилист, Сергий Булгаков - философ,Карл Маркс - основоположник, Александр Герцен - писатель, философ, революционер, Сергей Желябов - народоволец.
* * *
Просмотровый зал, треск проектора, две пары ног в сандаликах. От чёрных сандаликов пахнет дёгтем.
- Свидетель Герцен об идеалистах сороковых годов:
"Что же коснулось этих людей, чьё дыхание пересоздало их?
Ни мысли, ни заботы о своём общественном положении, о своей личной выгоде, об обеспечении.
Вся жизнь, все усилия устремлены к общему без всяких личных выгод.
Одни забывают своё богатство, другие свою бедность, - идут не останавливаясь, к разрешению теоретических вопросов.
Интерес истины, интерес жизни, интерес науки, искусства, юманите, поглощает всё".
"Где, в каком углу современного Запада найдёте вы такие группы отшельников мысли, схимников науки, фанатиков убеждений, у которых седеют волосы, а стремления вечно юны?"
* * *
О русских мальчиках, "решающих проклятые вопросы", говорит и Достоевский.
* * *
Свидетель Иван Тургенев:
"Мы всегда в философии искали всего на свете, кроме чистого мышления".
* * *
"Лучшее, что в мире - это мечта", - считает Киреевский.
* * *
Свидетель Виссарион Белинский:
"Я не хочу счастья и даром, если не буду спокоен насчёт каждого из моих братьев по крови..."
"Судьба субъекта, индивидуума, личности важнее судьбы всего мира и здоровья китайского императора".
- А китайский император, это что, не личность? - возмутился АГ.
- Давай не перебивать Белинского. Здесь вообще много противоречий, но сколько огня!.
" Я теперь в новой крайности, - это идея социализма, которая стала для меня идеей новой, бытием бытия, вопросом вопросов, альфой и омегой веры и знания. Всё из неё, для неё и к ней".
- Заметь, сколько библейских терминов! Совсем, как у Иосифа...
- "Я всё более и более гражданин вселенной. Безумная жажда любви, всё более и более пожирает мою внутренность, тоска тяжелее и упорнее".
"Я начинаю любить человечество по-маратовски: чтобы сделать счастливою малейшую часть его, я, кажется, огнём и мечом истребил бы остальную".
А вы всё: "Иосиф, Иосиф..." - покачал головкой АХ, - Ты только послушай:
- Социальность, социальность или смерть.
- Вот интересно, что Белинский под "социальностью" понимает? Уж, конечно, не просто передел собственности... Судя по уже приведённому нами "Письму к Гоголю" - это страстное желание сейчас же, немедленно, осуществить Правду Христову.
- Утопическая идея Царства Божия на земле, "сведение Небес на землю", по выражению свидетеля Достоевского, - оживился АГ. - Новая "Вавилонская башня".
Величайший грех!
- Э нет, сын тьмы, не так всё просто.
Твой хозяин опять сознательно напутал да и свидетеля Достоевского с толку сбил...
Почему же человекам тогда заповедано молиться: "Да будет Воля Твоя на земле, как на Небе?"
Это ли не "сведений Небес на землю?"
Причём тут Вавилонская башня?..
Сам Господь "стал человеком, чтобы мы обожились". То есть "сошёл на землю".
"Да приидет Царствие Твоё"...
Ну хорошо, пусть это о Царствии, которое "Внутри нас есть".
Но какое уж тут Царствие, когда из человека ежедневно раба и скота делают?
И выходит, к лучшему ничего менять нельзя?
Пусть рабство сменяется феодализмом, потом капитализмом, а к лучшему - ни-ни.
Грех, мол, утопия.
Славно придумано! Только кем?.. Почерк знакомый.
- Стараемся. Пипл хавает.
- А я тебе скажу, почему хавает:
" Суд же состоит в том, что Свет пришёл в мир; но люди возлюбили более тьму нежели Свет, потому что дела их были злы.
Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы;
А поступающий по правде идёт к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны".
/И. 3, 19/
- Вот и иди себе пожалуйста один к свету... - проворчал АГ. - И не мешай людЯм жить.
- А вместе, значит, нельзя? К капитализму можно, а к свету нельзя?
- За церковной оградой - можно и вместе.
- А на улице, значит, нельзя? Где это сказано? Покажи!
- У Достоевского и сказано:
"Социализм - это не есть только рабочий вопрос, или так называемого четвёртого сословия.
Но по преимуществу есть атеистический вопрос - вопрос современного воплощения атеизма, вопрос Вавилонской башни, строительство без Бога.
Не для достижения небес с земли, а для сведения небес на землю".
- Я про Писание спрашиваю. Или про свидетельства святых отцов в таком важном вопросе.
А Достоевский в карты играл. И в рулетку...
- И часто проигрывал, - вздохнул АГ, - По крупному. Но не будем судить.
- А я тебе вот что скажу, сын тьмы, - это долдонят те, кто "ненавидит свет и не идёт к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы".
- Ладно, не нервничай, береги силы для Иосифа.
- Это имеет прямое отношение к Иосифу, будто не знаешь!
"Не будет богатых, не будет бедных, ни царей, ни подданных, но будут братья, будут люди. И по глаголу апостола Павла Христос даст свою власть Отцу, а Отец-Разум снова воцарится, но уже на новом небе и над новой землёй".
- Здесь безусловная ошибка Белинского. "Отец-Разум"!
- Дань моде того времени. Скорее трогательная, чем крамольная.
- Очень даже крамольная. Всё бы тебе всех оправдывать...
* * *
Свидетель Бердяев:
- Русский атеизм родился из сострадания, из невозможности перенести зло мира, зло истории и цивилизации.
Нужно организовать иное управление миром, управление человеком, при котором не будет невыносимых страданий. Человек человеку будет не волком, а братом.
Раненые страданиями человеческими, исходящими от жалости, проникнутой пафосом человечности, не принимали империи, не хотели власти, могущества силы".
- Я бы добавил:
"не принимали неправедной империи, неправедной власти и силы".
А разве Господь повелел иначе?
Вот классический пример расхождения церкви Христовой и церкви социальной. Результат - атеизм. Отвергая искажённое учение, "мальчики" отвергали Бога. С водой выплёскивали ребёнка.
Белинский, слава Богу, это понимал. Да и многие другие.
Белинский сказал:
- Люди так глупы, что их насильно нужно вести к счастью.
И ещё:
- Не в парламент пошёл бы освобождённый русский народ, а в кабак побежал бы пить вино, бить стёкла и вешать дворян.
- Что-то мы про Герцена забыли, ты не находишь?
- Изволь. Послушаем Герцена:
"Под влиянием мещанства всё изменнилось в Европе.Все хотят казаться вместо того, чтобы быть".
"Скупости мещан имущих, противополагается зависть мещан неимущих.
С одной стороны - мещане-собственники, упорно отказывающиеся поступиться своими монополиями, с другой - неимущие мещане, которые хотят вырвать из их рук их достаток, но не имеют силы.
То есть с одной стороны скупость, а с другой зависть.
Так как действительного нравственного начала во всём этом нет, то и место лица в той или другой стороне определяется внешними условиями состояния, общественного положения".
- Наверное, читая эти строки, Иосиф думал об оборотнях, о своих дружках, дерущихся в пыли из-за мелочи.
Пролетарий - лишь изнанка буржуа - это он хорошо усвоил!
Кстати, вопрос на засыпку. Кому принадлежат слова:
"Пролетариат - люди наиболее обесчеловеченные, наиболее лишённые богатств человеческой природы. Они отравлены завистью и ненавистью"?
- Неужто Иосифу?
- Ну уж нет, - усмехнулся АХ, - Иосиф умел скрывать свои мысли и убеждения. - Это - сам Карл Маркс.
- И этим людям мы доверили революцию! В идеалы не верят, в пролетариат не верят...
- Зато верят в Маммону.
"Капитализм есть религия золотого тельца.
Капитализм есть не только обида и угнетение неимущих, он есть, прежде всего, обида и угнетение человеческой личности, всякой человеческой личности.
Раб и сам буржуа, появление пролетариата - порождение человеческого греха", - свидетельствует Бердяев.
" Буржуа - раб видимого мира, в котором он хочет занять положение.
Он оценивает людей не потому, что они есть, а потому, что у них есть.
Гражданин "мира сего"; царь земли.
Устроился, вкоренён, доволен, не чувствует суеты, ничтожества земных благ.
Единственная бесконечность, которую он признаёт - бесконечность экономического обогащения".
"Буржуа - всегда раб.
Он раб своей собственности и денег. Раб воли к обогащению, раб буржуазного общественного мнения, раб социального положения.
Лн раб тех рабов, которых эксплуатирует и которых боится."
" Он создал огромное материальное царство, подчинился ему сам и подчинил ему других. В буржуазной роскоши гибнет красота".
" Буржуа имеет непреодолимую тенденцию создавать мир фиктивный, порабощающий человека, и разлагать мир подлинных ценностей.
Буржуа создаёт самое фиктивное, самое нереальное, самое жуткое в своей нереальности царство денег.
Буржуа - не то, что он есть, а что у него есть".
- Назовём это буржуинское царство Вампирией, - сказал АХ, - ввергающей весь мир в рабство Маммоне.
Именно оно было главным врагом Иосифа.
Именно его клеймило Писание, и именно его почему-то охраняла и благословляла официальная церковь.
Религиозный философ Николай Бердяев был выслан Лениным из России. Однако, это не помешало ему подвести итоги:
"Старый режим сгнил и не имел приличных защитников.
Пала священная русская империя, которую отрицала и с которою боролась целое столетие русская интеллигенция /и не только она, добавим мы от себя/.
В народе ослабели и подверглись разложению те религиозные верования, которые поддерживали самодержавную монархию.
Из официальной фразеологии "православие, самодержавие, народничество" исчезло реальное содержание, фразеология эта стала неискренней и лживой...
Для русской левой интеллигенции революция всегда была и религией, и философией...
Русские атеизм, нигилизм, материализм приобрели религиозную окраску.
Русские люди из народного трудового слоя, даже когда они ушли из православия, продолжали искать Бога и Божьей правды, искать смысла жизни...
Русская идея - эсхатологическая, обращённая к концу. Отсюда - русский максимализм.
Но в русском сознании и эсхатологическая идея принимает форму стремления к всеобщему спасению. Русская религиозность носит соборный характер.
Христианство понимается прежде всего, как религия Воскресения".
Бога и Божьей правды искал Иосиф.
Вне Вампирии и благословляющей её официальной церкви.
Потому он и ушёл из семинарии.
* * *
Добролюбов и Чернышевский тоже были семинаристами. Глубоко религиозный и аскетичный Добролюбов в детстве бичевал себя, если съедал слишком много варенья...
"Его возмущает духовно-низменный характер жизни и православного духовенства, из которого он вышел, он не может примирить веру в Бога и Промысел Божий с существованием зла и несправедливых страданий.
Отсюда - увлечение вульгарным материализмом, помешательство на естественных науках /"Природа - не храм, а мастерская"/ и т. д."
"Нигилизм обвиняли в отрицании морали.
В действительности в русском аморализме есть сильный моральный пафос, пафос негодования против царящего в мире зла и неправды, пафос, устремлённый к лучшей жизни, в которой будет больше правды.
Неприятие мира, лежащего во зле, - оно было в православном аскетизме, эсхатологизме, в русском расколе".
/Свидетель Ник. Бердяев/
"Он ничего не хотел для себя, он весь был жертва.
В это время слишком многие православные христиане благополучно устраивали свои земные дела и дела небесные", - это свидетельство о Ник. Чернышевском, о котором везущие его на каторгу жандармы говорили:
- Нам поручено везти преступника, а мы везём святого..."
"Лучшие из русских революционеров соглашались в этой земной жизни на преследования, нужду, тюрьму, ссылку, каторгу, казнь, не имея никаких надежд на иную потустороннюю жизнь.
Очень невыгодно было сравнение для христиан того времени, которые очень дорожили благами земной жизни /- Причём, за счёт других! - прошипел АГ/ и рассчитывали на блага жизни небесной".
- Всех в ад! - захлопал АГ в ладошки, - не пойму ты-то за кого? За тех, кто забыл, что "нельзя одновременно служить Богу и Маммоне", или...
- Я за Иосифа, а прочие... Господь им судья.
Я только хочу сказать, что русский богослов Бухарев признал "Что делать" "христианской по духу книгой".
Соблюдая свято Истину, русская церковь отказалась от проповеди социальной справедливости и человеческого достоинства в Образе Божьем.
Эту социальную правду искали нигилисты, петрашевцы, затем народники, которых сами крестьяне зачастую выдавали властям.
Тогда и пришли террористы и марксисты...
- Ты про Герцена опять забыл! - возмутился АГ, - "К топору зовите Русь..." Мол, губит её "вера в добрые намерения царей..."
- Протест принимается.
Иосифу, разумеется, был знаком этот призыв.
Прочёл он и "Катехизис революции террориста Нечаева". Провозглашается железная дисциплина, жёсткая централизация, аскеза покруче, чем у сирийских монахов.
Ничего своего, личного не должен иметь революционер, как и монах - ни семьи, ни собственности, ни посторонних интересов, кроме интересов революции.
Даже имени.
При пострижении в монашество тоже меняли имя. Этим широко пользовались и русские революционеры, включая Иосифа.
Раскол между Церковью Христовой и церковью социальной особенно подтверждает речь на процессе свидетеля Желябова:
- Подсудимого Желябова, - поправил АГ.
- Это у них он был подсудимым, а у нас - свидетель:
"Крещён в православие, но православие отрицаю, хотя сущность учения Иисуса Христа признаю.
Эта сущность учения среди моих нравственных побуждений занимает почётное место.
Я верю в истину и справедливость этого учения и торжественно признаю, что вера без дел мертва есть. И что всякий истинный христианин должен бороться за правду, за право угнетённых и слабых, а если нужно, то за них пострадать: такова моя вера".
- Я только хочу сказать, что когда церковь отмахивается от "проклятых вопросов", ими начинают заниматься всякие материалисты, атеисты, нигилисты и, к сожалению, террористы, - вздохнул АХ, - И заканчивается это, в конце концов, революцией.
Смывающей нераскаянные грехи кровью, чаще всего праведной, невинной.
Говорят, что революция пожирает своих сынов. В первую очередь, самых лучших сынов.
"Живу Я! говорит Господь Бог;
за то, что овцы Мои оставлены были на расхищение, и без пастыря сделались овцы Мои пищею всякого зверя полевого и пастыри Мои не искали овец Моих и пасли пастыри самих себя, а овец Моих не пасли, - за то, пастыри, выслушайте слово Господне.
Так говорит Господь Бог:
вот Я - на пастырей, и взыщу овец Моих от руки их и не дам им более пасти овец, и не будут более пастыри пасти самих себя, и исторгну овец Моих из челюстей их, и не будут они пищею их."
/Иез. 34, 8-10/
"Посему так говорит им Господь Бог: вот, Я Сам буду судить между овцою тучною и овцою тощею.
Так как вы толкаете боком и плечом, и рогами своими бодаете всех слабых, доколе не вытолкаете их вон,
То Я спасу овец Моих, и они не будут уже расхищаемы, и рассужу между овцою и овцою.
И поставлю над ними ОДНОГО ПАСТЫРЯ, который будет пасти их, раба Моего Давида; он будет пасти их и он будет у них пастырем".
/Иез. 34, 20-23/
- Тебе это ничего не напоминает?..
Мальчик мечтал - он, Иосиф, примет из рук Давида "жезл железный" и станет пастырем Господа...
"Давид" - это одна из партийных кличек Иосифа.
* * *
А между тем у английских пуритан, переселенцев в Америку, уже появился девиз:
"Бог любит богатых".
Материальное благосостояние считалось признаком "небесного избранничества".
Их называли не иначе, как "отцы - пилигримы". Мессианизм, американский образ жизни постепенно становится доктриной молодого "царства маммоны" служить которому и покровительствовать должен был, по их разумению, сам Господь Бог.
В связи с этим хочу спросить: что лучше - вера в злого несправедливого бога, покровителя вампиров и хищников, или атеизм, который Бердяев назвал "входом к Богу с чёрного хода"?
"Воинствующее безбожие есть расплата за рабьи идеи о Боге, за приспособление истинного христианства к господствующим силам.
Атеизм может быть экзистенциональным диалектическим моментом в очищении идеи Бога.
Отрицание духа может быть очищением духа от служебной роли для господствующих интересов мира.
Не может быть классовой истины, но может быть классовая ложь и она играет немалую роль в истории".
/Ник. Бердяев/
- Забавно. Ты что же, оправдываешь атеизм?
- Я его объясняю. Во всяком случае, Господь предпочитает "холодных" "теплохладным":
"Знаю твои дела: ты ни холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч!
Но как ты тепел, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих."
/От. 3, 15 -16/
Евангельский богач и многие иже с ним спокойно пировали, пока на ступенях его дома страдал голодный и оборванный нищий Лазарь.
Только за это богач попал в ад.
Толстой в положении Евангельского богача чувствовал себя несчастнейшим из людей, он мучился и искал.
Может быть, не так и не там, но он не был "теплохладным".
* * *
Не плоть, а дух растлился в наши дни,
И человек отчаянно тоскует...
Он к свету рвётся из ночной тени
И, свет обретши, ропщет и бунтует.
Безверием палим и иссушён,
Невыносимое он днесь выносит...
И сознаёт свою погибель он,
И жаждет веры - но о ней не просит...
Не скажет ввек с молитвой и слезой,
Как ни скорбит пред замкнутою дверью:
"Впусти меня! Я верю, Боже мой!
Приди на помощь моему неверью!.."
/Свидетель Ф. Тютчев/
- Заканчивая часть, подведём итоги:
Свидетель Сергий Булгаков:
"С развитием исторических событий всё яснее раскрывается религиозный смысл русской драмы, которая, выражаясь в политическом и социальном кризисе, коренится в духовном распаде и внутреннем раздоре русского народа.
Мы опытно познали, что нельзя безнаказанно нарушать заповедь: "Ищите прежде всего Царствия Божия и правды Его, и вся прочая приложится вам".
Мы заботились исключительно об этом прочем, оставляя в небрежении духовный мир человека, эту подлинную творческую силу истории.
И мы потеряли духовное равновесие и разбрелись в разные стороны в погоне за этим "прочим", которое всё более дробилось и разъединяло людей...
Рождение нового человека, о котором говорится в беседе с Никодимом, может произойти только в недрах человеческой души, в тайниках самоопределяющейся личности...
Не в парламентах или народный собраниях происходит теперь самое решительное столкновение добра и зла, но в душах людей.
И исторические судьбы России решаются ныне в той незримой внутренней борьбе, и к нам, в которых она совершается, вполне применимо грозное слово Моисея, предсмертное завещание пророчествующего вождя Израиля к своему народу, предопределившее его земные судьбы:
"Призываю во свидетели небо и землю:
жизнь и смерть положил Я тебе, проклятие и благословение.
Избери же жизнь, да живёшь ты и семя твоё!"
/"О противоречиях современного безрелигиозного мировоззрения"/
Кончается часть, а может, рвётся. Гаснет проектор и..

Верующая пионерка.
* * *
Один за другим, будто по линейке, прочерчивают Красную площадь до самых трибун ряды белых рубашек, стриженых затылков и косичек о разноцветными бантами. Яна оглядывается - сзади площадь также линуют двигающиеся от Охотного ряда колонны.
Будто кто-то пишет ровные строчки на листе! Ниже, ниже, до самого нынешнего ГУМа.
Исписанная площадь-страница. Фразы, слова, буквы.
Дружины, отряды, и они, - Вали, Пети, Саньки, и она, Яна Синегина, одна из тысяч букв! Справа, слева, спереди, сзади такие же дети-буквы, маленькие, но очень важные.
Стоят плечом к плечу. Яна чувствует их тепло, дыхание, И знает: они испытывают то же, что и она.
Невидимый, вдохновенный голос откуда-то с зубчатой кремлёвской стены летит над площадью:
- Я, юный пионер Союза Советских Социалистических Республик... Площадь повторяет звонким раскатистым эхом. Шумно взлетают, кружатся над головами вспугнутые голуби.
- Обещаю жить и учиться так, чтобы стать достойным гражданином своей социалистической Родины...
- Галстуки надеть!
И вот / о чудо!/ расцветает площадь алыми огоньками пионерских галстуков. Яна в ожидании, когда придёт её очередь выйти из ряда и, чётко печатая шаг, приблизиться к вожатому Мише, почти теряет сознание от волнения.
А когда это мгновение наступит, и Миша обовьёт её шею огненно шелестящим шёлком, Яна вдруг осознает, что отныне должна у неё начаться совсем иная прекрасная жизнь.
В которой не будет места ни Люське, ни набегам на колхозный сад, ни тройкам по арифметике, ни вранью, ни разным там глупым сказочкам.
Она дала клятву. Она станет достойной.
Случится так, что буквально через несколько дней она сама решит покреститься вместе с Люськиным братишкой Витькой, и даст ещё одну клятву, самую главную.
Только уже не богу Ксении, а Богу пришедшего крестить Витьку священника, который повелит Яне поклясться вести себя хорошо, слушаться маму, не врать, учиться на отлично, любить свою Родину и больше всего - Бога и ближних.
То есть товарищей, как поняла Яна.
А Бога она и так любила, хоть Бог батюшки был построже бога Ксении.
В конце войны объявили, что Бог не то чтобы есть и не то чтобы опиум для народа, как прежде считалось, а что-то вроде феи-волшебницы из фильма "Золушка", защитник правды и справедливости.
Ведь Фея была не просто фея, а Золушкина крестная, и была в фильме волшебная страна, похожая на Царство Небесное, где исполняются все желания...
"Когда-нибудь спросят: а что вы собственно, можете предъявить? И никакие связи не помогут сделать ножку маленькой, душу - большой, а сердце - справедливым..."- весьма прозрачный намёк на Страшный суд.
"Есть грозный судия, он ждёт.
Он не доступен звону злата,
и мысли, и дела Он знает наперёд..."
То есть Бог по-прежнему оставался в сказочном измерении, но Он стал как бы положительным персонажем, нашим советским Богом.
Он помогал громить немцев, спасал в бою, послал на Русь лютые морозы, чтобы вывести из строя живую силу и технику врага.
Если раньше Бог как бы помогал "тёмным силам", которые "злобно гнетут", дурить и грабить простой трудовой народ, то теперь Бог "перевоспитался" и перешёл к нашим.
Бог, Фея-крёстная, дед Мороз. Сказочные силы, земные и небесные, помогайте России в смертельной схватке с "лежащим во зле" миром и фашисткой гидрой!
Всё для фронта, всё для победы.
"Он вас, непрошеных гостей, уложит спать под ёлками, Он проберёт вас до костей холодными иголками".
Короче говоря, Бог - сказка, но эта сказка теперь добрая.
Стали открываться церкви, но уцелело их мало, и сердобольные батюшки в гражданской одежде ездили по городам и весям, освящая дома, исповедуя и причащая желающих, собирая записки с поминанием о здравии и об упокоении и крестя на дому детей войны.
Делалось это потихоньку, полулегально, но делалось, и власти закрывали на это глаза.
И однажды Люська, раздуваясь от гордости, сообщила Яне, что завтра, в воскресенье, к ним в барак придёт батюшка.
Что все будут молиться, чтоб скорее кончилась война, чтоб никого не ранило и не убило, будет выгонять из барака чертей, а потом - крестить детей.
И её с Витькой покрестят, и Яшку со Светкой, и Маринку косую с третьего барака...
- А меня?! - обмерла Яна.
- Мамка сказала, что твоя мать не разрешит, потому что она еврейка.
Яна в слезах помчалась домой, приготовившись к жесточайшему сражению, но мама неожиданно сказала:
- Папа твой - крещёный. Ты уже взрослая, решай сама.
Достала из комода чистую рубашку, дала денег на свечку и крестик, написала для батюшки расписку, что против "крестильного обряда" своей дочери Иоанны не возражает.
У всех детей были крёстные. Яна назвала своей крестной, конечно же, Фею, воспитательницу детского сада в эвакуации.
Но она не помнила, как её звали, и нарекла Ксеней.
И представила себе бабу Ксеню в белом платье, в венчике и в цветах, как она полетела к Богу.
Но лицо у неё было юное, девичье, как у Феи из детсада. И держала она в руках волшебную палочку и умела делать чудеса, как Золушкина Фея.
Во время крещения Яна всех поразила, прочтя наизусть "Отче наш".
Никто не сказал ей, что пионер не должен верить в Бога, или что верующий православный не должен вступать в пионеры.
Может, ей просто повезло. Но лишь однажды, увидав на первой странице букваря профили Ленина и Сталина, она ясно осознала, что на первой странице должен быть Тот, Который всё сотворил.
И Который Везде, Всё и Всегда.
Так получилось, что с первых шагов жизни Бог, Отчизна и Вождь заняли в её бытии верные по иерархии места.
Она дала клятву Богу, Родине и товарищу Сталину.
Она станет достойной.
Это будет в самом деле удивительная жизнь.
Подхватит, понесёт пионерку, а затем комсомолку Яну Синегину стремительный водоворот сборов, слётов, костров, спартакиад, пионерлагерей - всё это в те первые послевоенные годы ещё было не засушено, живо.
Как-то само собой выйдет, что она сразу станет активисткой - председателем совета отряда, комсоргом класса и, наконец, редактором школьной стенгазеты "Орлёнок".
И по-прежнему каждый вечер перед сном - "Отче наш".
О Родине, о Сталине, о ближних.
Бог был на небе, Родина и товарищ Сталин - на земле, вот и всё.
Не Бог, а земная церковь была для неё тогда табу. Там обитали злобные старухи в чёрном и вообще было всё непонятно.
Видимо, повлияло чтение гоголевского "Вия", от которого классик, вроде бы, к концу жизни отрёкся.
Как-то само собой выйдет, что отныне она будет у всех на виду.
И ей уже станет неприлично получать не только тройки, но и четвёрки, придётся выбиваться в отличницы.
И уж никак нельзя будет в трудную минуту не защитить спортивную честь школы то в эстафете, то в стометровке, то в прыжках. Придётся часами истязать себя в спортзале.
И на выпускном вечере подвыпивший физрук будет каяться, что если б он не был корыстным гадом и убедил Синегину заняться с настоящим тренером чем-то одним, то она б давно стала мастером, а то и повыше.
И получится, что не будет у Яны в этой новой разнообразной, насыщенной и стремительной жизни свободной минутки. Придётся её, жизнь, стиснуть гранитными берегами строгого режима - уроки, спорт, общественная работа.
Домой она будет приходить лишь переночевать да переодеться. Даже обедать - в школьной столовой и заниматься - в читальном зале.
Ей будет казаться, что их это тоже устраивало. Маму и отчима.
К тому времени уже появится отчим.
Лучшие годы? Может быть. Никаких сомнений, тревог, мучительных бесплодных раздумий. Только действие.
Энергия гребца, плывущего по течению, уверенного в правоте реки, несущей к заветной цели.
Она будет уверена, что живёт правильно, и потому счастлива.
Никаких сказочек. Статьи, фельетоны, басни, рассказы из школьной жизни.
Ежегодные призы за лучшую в районе стенгазету. Ставшее аксиомой: "Необычайно одарённая девочка, гордость школы".
И ледяная отповедь уже поглядывающим на неё мальчишкам - только дружба!
И, наконец, Лёва Кошман, в узеньком своём засаленном пиджачке, с жёлтыми от никотина пальцами - ей он тогда покажется сошедшим прямо с Олимпа.
- Я из районной газеты "Пламя". Мы решили предложить тебе стать нашим нештатным корреспондентом, будешь освещать жизнь не только своей школы, но и других комсомольских организаций.
В общем, выполнять задания редакции.
Согласна?
- Так ведь у неё и без того нагрузок! - ахнет завуч Мария Антоновна. - А потом, видите ли, выпускной класс...
- Я согласна! - не своим голосом завопит Яна. - Марь Антонна, миленькая, я справлюсь!
И вновь так же весело и стремительно проносится Яна через ту свою жизнь.
Коммунистический моральный кодекс был её искренним убеждением, совпадая в совестью, с записанным в сердце Законом.
Высокие помыслы, внутреннее духовное восхождение, все люди - хорошие, только их надо воспитывать.
Забота об их нуждах, о справедливости, нравственная чистота, осуждение в себе и других эгоизма, жадности, обывательщины, ненужной роскоши - всё это совпадало и с её внутренней религиозностью.
Очень рано она поняла, что народ в своей массе - паства неразумная, а власти и интеллигенция - охрана, "удерживающие" от последствий первородного греха, "пережитков прошлого".
Призванные служить мостом между Небом и народными массами, "сеять разумное, доброе, вечное".
Недаром культура - от слова "культ".
Служение Небу.
Память фиксирует мгновения, хаотичный монтаж из обрывков каких-то уроков, сборов, заседаний школьной редколлегии, тренировок.
То она попадает в лето 51-го, когда её премировали путёвкой в Артек, сидит на перевёрнутой спасательной лодке, у ног плещется море, всё в огненных брызгах разбившегося о горизонт солнца.
Рядом - кареглазая малышка Мадлен, дочь французского коммуниста, очень похожая на девушку с картины "Шоколадница".
Яна с неподдельным интересом расспрашивает о положении коммунистов во Франции, как вдруг Мадлен кладёт ей голову на плечо и шепчет, старательно выговаривая русские слова:
- Я иметь гарсон во Франции. Мальчик, понимать? Амур.
Я за него скучать, понимать?
И вот уже совсем другое лето. В предстартовой лихорадке она слоняется вдоль трибуны стадиона.
Хочется смешаться с толпой болельщиков и удрать.
Она всегда тряслась перед стартом. Перед экзаменом, первой строчкой...
Страх перед началом.
- Участники забега на тысячу метров, на ста-арт!
Яна видит боковым зрением профили соперниц. Боже, только не последней! Она не имеет права подвести школу.
Господи, помоги! Пальцы впиваются в белую меловую черту старта, врастают в грунт, каждый удар сердца вбивает их всё глубже, будто молоток.
Кажется, уже никакая сила не выдернет пальцы из красной кирпичной крошки и это будет - ужас, позор...
Помоги, Господи!
- Приготовили-ись!
Стартового выстрела она не слышит, просто вдруг понимает, что уже бежит.
В ней, будто лопнув, бешено раскручивается пружина, быстрей, быстрей... Соперницы сзади.
Впереди уже виден второй поворот, и Яна знает, что именно там обычно кончается завод, она начнёт выдыхаться.
А за третьим поворотом наступит и вовсе сущий ад.
На последнем издыхании она будет глотать раскалённый воздух, боль в боку станет нестерпимой.
Но надо всё выдержать. Тогда она окажется в первой пятёрке, - поставленная тренером задача.
Ниже отступать некуда, иначе их не пошлют на областные соревнования...
Вся школа смотрит.
Господи, я ведь не могу их подвести. Ты же знаешь!
Последний поворот. Всё как всегда. Кинжалы впиваются в бок, воздух обжигает лёгкие, соперницы дышат в затылок.
И не могут догнать.
-Я-на! Я-на! - слышит она будто над смертной бездной отчаянный вопль трибун.
И бежит вдоль этой бездны, хотя должна бы давно туда свалиться, в вожделенную прохладную недвижность.
Не может, но бежит. Впереди никого.
- Не могу же я придти первой, - думает она, вернее то, что от неё осталось, - так не бывает.
Я умираю. Ну и пусть.
Она перескакивает эту грань через "не могу", ведущую к смерти, но бежит.
Она придёт первой и покажет лучшее в своей жизни время.
Ей даже удастся отдышаться и вкусить лавры победителя.
Но спорт она с тех пор бросит.
Останется лишь глубокое преклонение перед этими людьми, перед их смертельным поединком с собой.
И недоумение. Неужели такое можно выдерживать ради денег?
Благодарю Тебя, Господи, за прекрасное мое военное и послевоенное детство.
За чудесные фильмы-сказки: "Золушка", "Кащей Бессмертный" "Василиса Прекрасная", "Каменный цветок"...
3а "Александра Невского" и "Ивана Грозного", за "Волгу-Волгу" и "В шесть часов вечера после войны", за "Девушку с характером" и "Небесный тихоход"...
В чём-то приукрашенные, часто по-детски наивные, как святочные истории, как жития святых, они учили бескорыстию, самоотверженности, мужеству, верности.
Предостерегали от гибельных страстей, недостойных высокого звания человека.
За "Лебединое озеро", "Щелкунчик", "Аиду", за "Чайку", "Без вины виноватые".
За "Оптимистическую трагедию" и "Синюю птицу"...
Раз в месяц дребезжащий носатый подшефный автобус обязательно возил их в Москву на какое-нибудь культурное мероприятие.
И пропущенная сквозь цензурный отбор культура, именно от слова "культ", советская и золотого века, заменяла им проповеди, ибо сама вышла из проповеди...
Попытка расчистить образ Божий в человеке от завалов мусора, грязи, безумия.
Всему лучшему в себе она была обязана этой подцензурной культуре, в условиях религиозного голода явившейся тем "соевым молоком", которое, возможно, спасло тогда несколько поколений от духовной смерти.
А отсеянное, запретное, за редким исключением /Достоевский, Булгаков, религиозное возрождение серебряного века/, - в большинстве своём запретные спектакли, фильмы, книжки которые она разыскивала тайком на маминых и библиотечных полках, а потом все эти ходящие по рукам рукописи, ксероксы, подпольные просмотры - голода не утоляли.
Оказывались, как правило, однодневками - будоражащими, развращающими, "будящими зверя"...
В общем, как правило, бесовщиной.
Благодарю за детские томики - Аркадия Гайдара, Маршака, Бориса Житкова. За "Как закалялась сталь" и "Молодая гвардия".
За сказки Пушкина и Андерсена, издававшиеся огромными тиражами, как и Лев Толстой, Чехов, Гоголь, Лермонтов...
Конечно, и классика прогонялась сквозь цензуру, вроде "Гавриилиады", но сам автор был бы этой цензуре, скорее всего, премного обязан.
Благодарю за Рихтера, Ойстраха и Гилельса, за концерты Игоря Моисеева и "Берёзку"... После них хотелось жить чисто, честно, становиться лучше и строить светлое будущее.
Пусть во многом упрощённый, лубочный, приукрашенный и тепличный мир (вершились в то время и кровавые разборки)...
Но мх, детей, маленьких и взрослых (ибо наставление "будьте, как дети" всегда отличало настоящих "совков") - тщательно оберегали от бурь, грязи, борьбы за власть, метаний, крови и страстей, всего того, что называется "морем житейским".
Они, дети от пяти до семидесяти пяти знали, что где-то есть это грозное "море". Катастрофы, борьба за власть, за золото и место под солнцем.
Безработица, нищета, мафия и прочие ужасы. Кое-что узнавали из запретных книг, скабрезных или злобных "просветительных" листков - "прочти и передай другому",от "вражьих голосов" и забугорных изданий.
Как правило, их берегли от того, в чём потом следовало бы по канонам православия каяться.
Берегли от зла и от тех, кто ратовал за свободу зла.

Допрос свидетельницы.
* * *
Присутствовали:
АХ (Ангел-Хранитель), АГ (Ангел-Губитель), баянист Серёжа, Светлана Аллилуева, Лев Толстой.
- Спасибо, Яна, твоё свидетельство нам очень помогло, - услыхала она над собой ангельский голосок АХа. - Вставай, негоже девушке валяться на полу.
Детство кончилось, комсомолка Синегина.
- Какое ещё свидетельство?
- В защиту Иосифа.
Сталинское детство Иоанны в защиту Иосифа.
Девочки, которая, вопреки атеистической пропаганде, покрестилась в сознательном возрасте.
Молилась перед сном о здоровье мамы, отца, если он жив и где-нибудь в Австралии, Люськи.
И товарища Сталина.
Которая благодарила Бога, что завтра в клубе покажут "3олушку", что мама дала на мороженое, хоть Яна и не помыла посуду, что жизнь прекрасна.
Вот только потерялась куда-то библиотечная книга.
И она, Яна Синегина, когда-либо должна умереть.
И просила Бога не оставлять её навсегда одну в ужасной тёмной яме, а взять к себе, как бабку Ксеню.
И желала Богу, чтоб он всегда был добрым.
И чтоб все были счастливы, в том числе и Сам Бог.
- Ты подтверждаешь свои показания, свидетельница?
- Угу. А тётя Клава где?
- Да не бойся ты, она на вязальный кружок ушла.
- У меня вопрос к защите, - прошипел АГ, - Вступая в пионеры и комсомол - разве она не отрекалась от Бога?
- " Жить и учиться так, чтобы стать достойным гражданином своей социалистической Родины", - вот текст.
Ни здесь, ни в комсомоле никакого богоотступничества или атеизма не требовали. Может, Иоанне просто повезло, не знаю, - сказал АХ.
- Любить и беречь Родину, бороться против "лежащего во зле» мира, за построение светлого коммунистического будущего, о котором она молилась:
"Да будет воля Твоя на земле, как на Небе"...
Не задирать нос, помогать товарищам, больным и слабым, слушаться родителей и старших.
Не гоняться за красивыми лишними вещами, как какие-нибудь мещане, не лгать, не брать чужого.
Трудиться, потому что, по словам апостола Павла, "Кто не работает, тот не ест".
И вообще "Все за одного, один за всех".
"Сам погибай, а товарища выручай", "Хлеба горбушку, и ту пополам"...
То есть "душу положить за други своя"...
По-товарищески, целомудренно относиться к мальчикам, ожидая своего единственного, Небом данного принца. Быть скромным в быту...
"Умри, но не давай поцелуя без любви"...
- Какое ханжество! - поморщился АГ.
- Это уже к Евангелию претензии. Там ещё строже:
"Если правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя; ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не всё тело твоё было ввержено в геенну".
/Мф.5, 29/
- Прошу музыку!
Неизвестно откуда взявшийся в вечности школьный баянист безногий Серёжа заиграл и запел под собственный аккомпанемент:
Близится эра светлых годов,
клич пионеров: "Всегда будь готов!"
"Кто в дружбу верит горячо, кто рядом чувствует плечо,
тот никогда не упадёт, в любой беде не пропадёт!
А если и споткнётся вдруг, то встать ему поможет друг.
Всегда ему надёжный друг в беде протянет руку!
АХ подпевал ему ангельским голоском, вспоминая всё новые песни.
А Иоанна подтвердила, что да, были они, их песни, как правило, целомудренными, светлыми, пронизанными христианским мироощущением добра, защищённости, грядущего Светлого Будущего.
В котором, как она верила, ей предстояло жить и отдать "Всю жизнь и все силы борьбе за освобождение человечества".
АХ тут же не замедлил привести слова апостола Павла:
"К свободе призваны вы, братия, только смотрите, чтобы свобода ваша не стала способом к угождению плоти".
/Гал. 5, 13/
Иоанна подтвердила, что да, идеология боролась с рабством у плоти и страстей, против психологии буржуинов и плохишей, продававших "Великую Тайну" за "банку варенья и корзину печенья".
И как Истина обличала фарисеев, так и коммунистическая идеология, часто в её лице, журналистки Иоанны Синегиной, обличала новоявленных фарисеев и перерожденцев, бичуя и призывая "не казаться, а быть" ...
- И это ты про тирана, убийцу, величайшего злодея всех времён и народов! - зашипел АГ.
- Успокойся, Негатив, у тебя свои свидетели - репрессированные, бывшие "враги народа", гулаговцы.
Их дети, которые потом отомстят, разрушив ненавистную Антивампирию...
Я не мешал, когда они свидетельствовали:
Ельцин - репрессированы отец и дядя в 38-м.
Горбачёв - два деда.
Волкогонов - отец.
Марк Захаров - дед сражался в армии Колчака, умер в Австралии.
У Солженицына отец - офицер царской армии.
Отец Майи Плисецкой расстрелян в 37-м.
Отец Галины Вишневской арестован по 58-й.
Отец украинского Чорновила был эсесовцем.
Отец Ландсбергиса - министром при оккупантах-нацистах.
Я молчал, когда они свидетельствовали...
Кстати, в Библии дети в ответе за вину отцов до нескольких поколений. А эти при советской власти все "випами" стали.
- Кем-кем?
- Вери импортант персонами, вот кем. Темнота!
- Ладно-ладно, сам говорил - береги нервы до Суда...
Ещё вопрос: разве Иосиф не требовал, чтобы ему поклонялись, как Богу?
- Расхожий охмурёж! Приведём хотя бы свидетельство Светланы Аллилуевой:
- Отец вообще не выносил вида толпы, рукоплескающей ему и орущей "ура" - у него лицо перекашивалось от раздражения.
- Ну, так то дочка... Родственники, они всегда...
- Кстати, на Суде и до Суда в молитвах по усопшим любое свидетельство любви бесценно...
- Я спрашиваю свидетельницу Иоанну... Все эти оды, славословия вождю... Это культ разве не насаждало?
Иоанна ответит, что это была бы нелепость - генеральному секретарю атеистической партии провозглашать себя богом, и никогда ничего подобного вождь, само собой, не требовал.
Он был пастырем, вождём, взявшим на себя миссию сохранить в рамке заповедей стадо в отсутствии Господина, получив от Него приказ "сберечь овец".
Использовал он для этого любые средства, включая собственный культ, но как "вождя", а отнюдь не бога.
Для них, детей, Господь Бог был неким сказочным персонажем в сказочном Своём Царствии, в котором можно было верить или нет.
Сталин был хозяином на земле, Бог - на Небе.
Господь был Богом, Сталин - вождём, пастырем всего многонационального советского народа.
Вождь, как правило, не требовал богово, не вмешивался во внутрицерковные дела.
Разве что восстановил патриаршество на Руси /кстати, акт укрепления Православной церкви/.
Единственным требованием вождя к священству было - лояльность к советской власти.
Когда Сталин в начале войны почувствовал поддержку со стороны церкви, он стал ей оказывать прямое покровительство.
Но никогда не вмешивался в церковные догматы, как вмешивался в "вопросы языкознания" или в искусство.
И Господь, и вождь требовали, чтобы верующая пионерка, а затем комсомолка Яна соблюдала заповеди.
Чтобы, по возможности, не было разлада между этими заповедями и её совестью.
Разлад начался потом, после смерти вождя, после "оттепели", московского международного фестиваля молодёжи.
В эпоху Хрущёва и его гонений на церковь, пообещавшего, что "скоро надобность в священниках начисто отпадёт".
Когда необходимость жёсткого руководства огромной страной в условиях враждебного окружения стали именовать "тоталитаризмом за колючей проволокой", целомудрие - старомодностью и ханжеством.
Нестяжание - совковостью и нищенской психологией, соборность и коллективизм - стадностью, а любовь к Родине - квасным патриотизмом.
- Вопрос к свидетельнице. Что для неё "любовь к Родине?" Имперское мышление, национализм или классовая непримиримость? - не унимался АГ.
- Все это идолопоклонство.
Иоанна ответила, что просто любила свою страну, ограждавшую и защищавшую её от "лежащего во зле" мира, от всего, что отвергала её совесть, её представление о смысле и предназначении человеческой жизни.
Она рассказала, что в детстве холодела от ужаса при мысли, что могла бы родиться в какой-то другой стране - богатой бездельницей, эксплуататоршей или домохозяйкой, потому что во многих странах женщины не работают. Или даже торгуют своим телом.
- Ты была рабом государства...
- Всякий, находящийся в убежище, его раб.
- И рабыней идеологии...
Иоанна возразила, что рабыня подчиняется из-под палки, а ей нравилось противостоять дурному в себе, быть «верующей пионеркой".
Может, ей просто повезло. Власть была порой утомительна, смешна, абсурдна, ей можно было наврать, обвести её вокруг пальца.
Но это была "её власть" - она защищала, а не пожирала и не губила.
Во всяком случае, никогда не заставляла лично её идти против Бога и заповедей.
Даже потом, когда Иоанна занималась сама "идеологической пропагандой", разыскивая и даже придумывая положительных героев...
- Обманом ты занималась. Лакировкой действительности...
-"Нас возвышающим обманом", - возразила Иоанна. - Попытка увидеть, разглядеть и красоту Божьего мира, и Образ Божий в каждом.
И приподнять человека над суетой.
- Она помогала людям стать лучше, - поддержал АХ, - Именно этого от неё хотел Господь. И хотела власть.
- Ты, как и большинство верующих, не была воцерковлена, - шипел АГ, - вы были лишены церковных таинств. Причастия, ради чего, собственно, Спаситель и сошёл на землю, и был распят...
С этим Иоанна была вынуждена согласиться.
Гонения на церковь, безусловно, были, это вопрос очень сложный.
Но она, Иоанна, при желании всегда могла бы потихоньку посещать храм.
И её вина, что она этого не делала.
Вина - инертность в вопросах веры, непротивление нелепостям атеистической пропаганды, которую она просто с порога отметала, но вникать и разбираться не желала.
Однако и нелепости эти, и наша "теплохладность" начались задолго до большевиков.
Церкви в Москве были, но люди проходили мимо.
Иоанна, в частности, просто стеснялась зайти.
Для неё Бог совершенно не был связан с церковью.
Бог - нечто могущественное, высокое, непостижимое.
А в церкви полутемно, непонятно и скучно, там одни злые полуграмотные старухи в чёрном, поклоняющиеся нарисованным на иконах богам, похожим на людей.
Чего, конечно, не может быть.
Так ей казалось.
Она ничего не понимала и особенно не пыталась понять, и никто не хотел и не знал, как объяснить ей хотя бы азы Православия.
Культура, происходящая от слова "культ" и призванная служить мостом между Церковью и "лежащим во зле" миром, занималась, в основном, нравственной, идеологической проповедью.
Но, встречаясь с вопросами духовными, вынуждена была переходить на эзопов язык.
Да и тут в бочку мёда примешивалась ложка дёгтя - то "классовой борьбы", то иной конъюнктуры.
В общем, "разумное, доброе, вечное" сеялось.
Но на уровне "мы все произошли от обезьяны, поэтому давайте строить светлое будущее.
А азы Православия постигались, как правило, лишь за церковной оградой.
Поэтому "теплохладная" Иоанна, не желающая разобраться в "вопросе вопросов" и легкомысленно связавшая церковь с суеверием, вроде веры в леших и домовых, ни разу даже не открывшая Библию, что лежала у них на полке, была, безусловно, виновна в невнимании к основным вопросам бытия и собственному спасению.
Бог просто оставался для неё непостижной высшей силой, требующей и от людей некоей гармоничной и доброй сущности, приобщившись к которой, можно преодолеть смерть.
О смысле крестного подвига Спасителя и вообще о христианстве она, можно сказать, не имела ни малейшего представления.
Это был её грех.
- И была невоцерковлена, и лишена церковных таинств, - повторил АГ.
АХ тоже вынужден был с ним согласиться - да, безусловно виновна власть - в запрете исповедания Христа и Его учения вне церковной ограды.
Но, с другой стороны, в многонациональной стране, где столько религий, надо было тогда разрешать активную деятельность и других конфессий, и ни к чему хорошему это бы не привело.
Кстати, Иосиф начал после войны многое делать в отношении Православия, но всё оборвалось с его смертью.
И ещё АХ сказал, что государство в вопросах свободы веры должно соблюдать полный нейтралитет.
Ибо если кесарь соблазняет своих подданных атеизмом, равно как и использует веру в своих политических целях, он как бы берёт ответственность перед Богом за души, находящиеся у него в послушании.
То есть это вмешательство кесаря в дела Божии.
Затем АХ сделал очень сильный ход в защиту отделения церкви от государства, обратившись к истории православной царской Руси и призвав в свидетели Льва Толстого:
" В школах учат катехизису и посылают учеников в церковь; от чиновников требуют свидетельств в бытии у причастия.
Но человек нашего круга, который не учится больше и не находится на государственной службе, и теперь, а в старину ещё больше, мог прожить десятки лет, ни разу не вспомнив о том, что он живёт среди христиан и сам считается исповедующим христианскую православную веру".
" Началом всего было, разумеется, нравственное совершенствование.
Но скоро оно подменилось совершенствованием вообще, т.е. желанием быть лучше не перед самим собой или перед Богом, а желанием быть лучше перед другими людьми.
И очень скоро это стремление быть лучше перед другими людьми подменилось желанием быть сильнее других людей, т. е. славнее, важнее, богаче других".
- "Бог есть дух, - процитировал АХ, - И поклоняться Ему надо в Духе и Истине".
А не "казаться" вместо того, чтобы "быть".
Свидетель Толстой убедительно показывает нам переход от теплохладности к самости и вампиризму:
"Без ужаса, омерзения и боли сердечной не могу вспомнить об этих годах.
Я убивал людей на войне, вызывал на дуэли, чтоб убить, проигрывал в карты, проедал труды мужиков, казнил их, блудил, обманывал.
Ложь, воровство, любодеяния всех родов, пьянство, насилие, убийство...
Не было преступления, которого бы я не совершал, и за всё это меня хвалили, считали и считают мои сверстники сравнительно нравственным человеком".
- То есть получается, что лучше "холодность" и атеизм, чем "теплохладные" непотребства под маской верующего.
Христос пришёл спасти грешников, но "верующих грешников".
А "теплохладные" граждане, кощунственно именующие себя христианами, вместе с "теплохладным" государством, заставляющим своих подданных "пусть не быть, но казаться", уподобляются строителям Вавилонской башни.
Это когда "лежащий во зле мир" вознамерился всем скопом вскарабкаться на Небо.
АХ добавил, что Небо - обитель избранников, что не раз подчёркивается в Евангелии: "Много званых, но мало избранных"
/Мф. 2О, 16/.
Путь туда - тайна великая и сокровенная.
Хотя бывали, конечно, в истории случаи особой благодати Божией, вроде массового крещения Руси Владимиром. Но это скорее подтверждающее правило исключение.
Так что неизвестно, что лучше - государственный атеизм, или государственная вера. Наверное "оба хуже".
Лучше всего для кесаря, судя по всему, не вмешиваться в "богово".
АХ ещё сказал, что ему неведомо, сознательно ли избежал Иосиф этого соблазна многих царей.
Но поскольку Христос - это прежде всего, состояние души, "Путь, Истина и Жизнь", то он вольно или невольно сделал этот Путь ко Христу крестным, многотрудным и истинным, омытым кровью новомучеников.
Была очищена от несправедливости, лукавства и фарисейского лицемерия церковная социальная проповедь, о чём пишет свидетель Лев Толстой.
Да, церкви были разрушены, но и оставшиеся пустовали, держались одно время лишь на этих самых неприветливых бабулях.
Требовалось время и очищение, чтобы восстановить мост между Православием и народом, переставшими понимать друг друга.
Он, этот разрыв, не раз был омыт кровью.
"Ибо так говорит Господь: вот, Я Сам отыщу овец Моих и осмотрю их."
"Потерявшуюся отыщу и угнанную возвращу, и пораненную перевяжу, и больную укреплю, а разжиревшую и буйную истреблю; буду пасти их по правде".
/Иез. 34, 11, 16/
Иосифу предстояло изгнать волков и поставить ограду от хищников.
- Железный занавес и цензуру, - фыркнул АГ. - А как же демократия?
- Не забывай, сын тьмы, что Спаситель был приговорен к распятию демократическим путём! Подавляющее большинство кричало:
"Распни Его!"
- За счастье народное бьются отряды рабочих-бойцов», - опять встрял и заиграл безногий баянист Серёжа,
- К станку ли ты склоняешься, в скалу ли ты врубаешься - мечта прекрасная, ещё неясная, уже зовёт тебя вперёд..."
- Уж конечно, не о бочке варенья с корзиной печенья пелось в этих песнях, - подытожил Ах, - А о том высоком состоянии души, о том самом освобождении от "похоти очей, плоти и гордости житейской", правящих "лежащим во зле" миром.
От унизительной рабской суеты, от губительной самости - самоутверждения вне Бога...
Ведь от коллективизма до соборности не так уж далеко.
Пример - Великая Отечественная.
Очищение, реабилитация падшей больной души народа, постепенно поднимающей голову к Небу.
Её возвращение в Храм.
Ибо, повторюсь, Христос - Путь, и стоящие на Пути, дающие добрые плоды - уже неосознанно отдали Ему сердца.
Народ, знающий сердцем Тайну, гораздо ближе к Небу, чем фарисейски исповедующие христианство плохиши и буржуины, отдавшие сердца Маммоне.
" И, как один, умрём в борьбе за это..." - тенорил Серёжа.
Таким образом, АГу всё же пришлось согласиться, что Иоанну можно считать "верующей пионеркой" и свидетельницей в пользу Иосифа.
От злости АГ совсем почернел.
- Оставайся в детстве, Иоанна, - прошипел он ласково ей на ухо, - "Детство наше золотое всё светлее с каждым днём..."
До самого Суда пребудешь здесь - я выхлопочу разрешение.
Ни грехов, ни страстей, ни моря житейского... Ни мерса, ни реанимации, ни дверей дремучих...
Оставайся за первой дверью, я для верности тебя на три поворота ключа запру...
- У нас был только на два замок...
- А у меня будет на три. Ну, по рукам?
- А Егорка? - отшатнулась она.
- Ну какой ещё Егорка в твоём детстве? Егорка вообще не родится... Без тебя вообще больше ничего не будет - тебя нет, значит, ничего нет...
Субъективный идеализм.
«И нету Златова Егора, осталась песенка одна»...
Иоанна трижды, как учил отец Тихон, перекрестилась.
Во-он! - зашипел в ярости АГ, дохнув серой.
Иоанну завертело в душном смрадном вихре.
Она обрушилась в чёрную бездну и падала в смертной тоске, пока знакомый золотой луч АХа не обвился вокруг неё, как лассо, и не выдернул из падения, опустив в весну пятьдесят пятого.
Прямо на стройплощадку многоквартирного дома для рабочих.