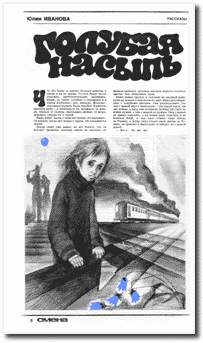
Голубая насыпь.
* * *
Она не помнила, как началась война, только остался в памяти разрытый двор и глубокая - преглубокая канава, куда надо было спускаться по ступенькам - видимо, щель бомбоубежища.
Ребята постарше играли там в какие-то свои игры, а Яну лишь однажды взяли с собой - у неё был папин карманный фонарик.
Фонарик мальчишки, конечно же, сразу отобрали, убежали куда-то, и Яна осталась одна в подземелье.
Хлюпает под ногами вода. Сандалии совсем промокли, вязнут в противно чавкающей глине. Дрожа от холода и страха, Яна-маленькая раздумывает - не лучше ли зареветь?
Но тут видит: подземное дерево. Оно растет прямо в земляной стене.
Ясно виден толстый, толще руки, ствол, голые ветви.
Некоторые выбились из стены, безжизненно свисают к воде, другие обрублены - круглые белые печати. Дерево без листьев... Чем выше, тем толще ствол.
Дерево растет вниз головой!
Яна-маленькая ошеломлена - разве можно расти вниз головой?
Иоанне-знающей нет дела до какого-то берёзового корня, она ждет отца.
Ведь именно он должен спуститься за ней и вытащить на свет Божий - это она хорошо помнит. Может, удастся, наконец, разглядеть его.
Вот он появляется в отверстии щели, вглядывается в темноту, скрипят ступени...
Проклятая темнота. Яна-маленькая нарочно отступает, прячется но, не выдержав, прыскает.
- Жанна, ты? Ну, держись, вражья сила!
"Жанна" - так он настоял её назвать в честь своей любимой Орлеанской девы. Но мама терпеть не могла иностранщины, и в свидетельстве записали русский вариант - редкое "Иоанна".
* * *
Сколько народу, и все куда-то спешат, бегут...
С чемоданами, мешками, узлами, тележками. Платформа, вагоны.
Те вагоны, из детства, со ступеньками, с оконными стеклами, со скрежетом задвигающимися.
Вагоны, в которых ездили на крышах, висели на подножках, махали руками из окон.
Яна по-прежнему на руках у отца, будто он так и вынес её из щели бомбоубежища на платформу, с которой они уезжали в эвакуацию.
Память объединила эти мгновения в одно, а между ними, наверное, несколько дней, неделя...
Отец уже в военной форме.
Сегодня он их проводит, завтра - на фронт, а через несколько месяцев в их пустую квартиру придёт похоронка.
Долго будет белеть в почтовом ящике, попадёт по ошибке к Снежиным вместо Синегиных и, уже конверт в конверте, настигнет их, наконец, в маленьком уральском посёлке.
"Вы уж простите, но мой муж не Синегин Аркадий Иванович, а Снежин Аркадий Ионович. Я на почту документы носила, они просили перед вами извиниться" - было в письме.
"Просили извиниться"...
Мама всё пересчитывает узлы.
На ней серый габардиновый пыльник и шляпка с короткими полями. В июльскую-то жару. Наверное, не влезло в чемодан.
Сейчас Яне хорошо видно её раскрасневшееся, ещё по-детски округлое лицо с прилипшими ко лбу кудряшками перманента. Бисеринки пота на верхней губе.
Маме - 27 лет, отцу - 26.
-Ну куда ты столько набрала - ну, женщины! Война через пару месяцев кончится, а ты... Куда столько мыла - слона купать?
Мыло кончится через полтора года.
Каждый кусок мама будет делить на четыре части, натирать на тёрке и заливать водой. Несколько кусков выменяют на сахар.
Они болтают о какой-то ерунде. Боты, квитанции, ключи...
Мама даже смеётся.
Через много лет отчим в гостях будет наливать в твой бокал лимонад, потому что после одной-двух рюмок ты начинаешь плакать.
И рассказывать первому попавшемуся гостю о великой неповторимой любви еврейской девочки Сони и русского парня Аркадия.
О том, как бабушка с дедушкой, тоже погибшие в войну, заперли тебя на втором этаже, и ты, комсомолка, со значком ГТО, спустишься с балкона по простыне, босиком.
И отец так и увезёт тебя босоножкой-бесприданницей на мотоцикле.
- Он в Австралии, - будешь рассказывать ты, - Попал в плен и теперь в какой-то закрытой лаборатории. Его просто не выпускают - он такой талантливый!
Вокруг обычная вокзальная суета, никаких слёз. Все и вправду верят, что война ненадолго. Неужели она так и не разглядит отца?
Яне скучно, она начинает хныкать.
Отец сажает её на узел, они с матерью прощаются.
Яне скучно, она не глядит на них.
- А у меня чего есть...
Рядом на чемодане девчонка в панамке.
Яна сразу понимает - что-то у неё в самом деле есть, что-то необыкновенное - такой уж вид у девчонки.
И с этого момента девчонкино "что-то", оказавшееся обыкновенной черепахой, превращает Яну-маленькую в одно сплошное "Дай!", не имеющее ничего общего ни с отцом, ни с эвакуацией.
- Ой какая! Дай подержать... Можно погладить? Ой, шевелится! Мама - черепаха! Живая! Папа - черепаха!
Хочу! Дай! Ну купи!..
Яну хватают, тащат в вагон, оглушенную собственным ревом, ослепшую от слёз.
Уговоры матери, её раздражённый подзатыльник, прощальные поцелуи отца, урезонивания окружающих, что "милиционер заберёт" - все ничто по сравнению с вожделенной живой коробочкой на ножках, без которой дальнейшая жизнь не имеет никакого смысла.
И никто не хочет ей помочь. Никому нет дела до её безутешного горя.
* * *
Что это были за цветы! Больше никогда и нигде я их не увижу!
То есть будет нечто похожее, приблизительное, напоминающее, но таких голубых и огромных и в таком изобилии - нет, никогда.
Железнодорожная насыпь была голубой.
Кажется - протяни руку - и коснёшься их, влажных от дождя, тёплых от солнца, прохладно-свежих от ветра, дующего откуда-то с полей.
Яна знает: когда у поля нет конца, это называется степью. Когда нет конца у пруда , это называется морем.
Поезд стоит уже давно, но все боятся, что он вот-вот тронется, поэтому никто не выходит из битком набитых, душных вагонов нарвать голубых цветов.
Так объяснила мама.
Яна лежит локтями и грудью на оконной раме, руки по локоть в паровозной саже.
Яна разговаривает с голубыми цветами.
Она рассказывает, что они с мамой едут в эвакуацию - это такой город, где нет войны.
А папу они оставили, потому что папа на войне нужен, а они с мамой не нужны.
Они с мамой не умеют стрелять, а на войне надо стрелять и не бояться бомб.
И там надо отдать свою жизнь за Родину.
А когда папа отдаст свою жизнь за Родину, он приедет в эвакуацию и заберет их с мамой домой.
- Ма-а... Ну, ма, же!..
- Отстань, не видишь - маме некогда. Вот я тебе выпачкаюсь! Я тебе поторчу на сквозняке...
Ведь не бывает же таких цветов - почему ты не смотришь?
Или я, та Яна, вижу их другими? Другими, чем ты, чем все взрослые?
Впрочем, разве тебе до цветов?
И не до меня тебе, жива я,здорова, ну и ладно.
Так уж получилось - война.
Скоро мы почти не будем видеться - из детского сада меня будет забирать квартирная хозяйка, кормить ужином - меня, сына Кольку и бабку Ксению.
Чечевичная каша, или суп из селёдочных голов, или картофельные дранки, чудо из чудес.
После ужина бабка Ксения будет мне рассказывать про своего Бога, научит непонятным, таинственным словам, которыми надо разговаривать с Богом.
Я буду выпаливать их перед сном, как пароль, а потом уже по-своему рассказывать, что случилось за день.
Богу бабки Ксении, а не тебе. Советоваться с ним, что-либо клянчить.
Ты будешь возвращаться с завода, когда я уже сплю, и уходить, когда я еще сплю.
Только ночью сквозь сон я буду чувствовать рядом твое тепло.
Даже по воскресеньям ты или в поле подшефного колхоза, или дома над кастрюлями, корытами, хозяйской зингеровской машинкой.
- Потом, Яна, потом - видишь, сколько дел у мамы. Ты уже большая, должна понимать. Иди, Яна...
Я отвыкаю от тебя.
"Вот погоди, кончится война..." Мы живём будущим.
Когда кончится война, я снова увижу папу, и мне купят мороженое, и наш поезд на обратном пути остановится у насыпи с голубыми цветами.
Будет стоять долго-долго, и мы нарвем большие-пребольшие букеты...
Перед сном я прошу Бога бабки Ксении, чтобы завтра кончилась война, и тогда всё сбудется.
Мы вернемся осенью сорок третьего - какие осенью цветы? На Казанском вокзале ты купишь мне мороженое.
Папы уже не будет.
А ты...
После работы - занятия на вечернем отделении института, ты будешь навёрстывать, навёрстывать эти годы.
Дерзкая мысль - завершить диссертацию отца. И опять я почти не буду тебя видеть.
Во имя чего? Институт ты, правда, закончишь, но аспирантура как-то сама собой отпадет, потому что выяснится, что папину тему уже кто-то где-то успешно разработал и завершил.
И ты сломаешься, будешь сидеть вечерами дома, не зная, куда себя деть.
Ты уже отвыкла от дома, я от тебя, и мы будем только мешать друг другу.
Потом спохватишься, что тебе уже за тридцать. И коли не получилось с аспирантурой и наукой, надо самоутвердиться иначе.
И кинешься искать мужа - исступлённо, как всё, что ты когда-либо делала.
В комнате нашей появятся коробочки, флакончики, отрезы, запорхают имена всяких там Леокадий и Эмилий из парикмахерской.
Соседи станут говорить, что ты прямо-таки невероятно похорошела, а в тебя и вправду будто вселился бес.
Такой худой ты не была даже в юности, а худоба тебе идет. Подведенные глаза кажутся мрачно-огромными, как у цыганки-гадалки, прекрасный открытый лоб, легкие тени на впадинах скул, ярко-вишневый мазок губ...
И вся ты - яркая, гибкая, узкая в том своем узком вишнёвом платье с вышивкой, в котором и шагу-то ступить невозможно (я, во всяком случае, не могла, когда примеряла).
А ты в нем летала, скользила, закидывала ногу на ногу, будто родилась в этом невероятно узком наряде, будто он был твоей второй кожей.
Такой ты мне запомнишься.
Девчонки будут говорить: - Какая у тебя красивая мама!
И ты в конце концов отыщешь себе мужа в том послевоенном безмужье, причем мужа вполне приличного - доброго, внимательного, непьющего вдовца, даже внешне приятного, даже работающего каким-то начальником.
Мы с ним будем решать задачки про рыболовов и пешеходов и вообще отлично поладим.
Когда ты станешь удирать от нас обоих - то к каким-то подругам, то заделаешься вдруг заядлой театралкой, то общественницей, то просто будешь задерживаться на работе, по поводу и без повода, лишь бы не домой - я буду осуждать тебя и жалеть отчима.
И только через много лет пойму, что не нужна тебе была ни аспирантура, ни кипучая деятельность, ни самый что ни на есть расхороший муж.
Что нужен тебе был только Аркадий Синегин.
Что состоять его женой, его "половиной" на земле было твоим предназначением, призванием в самом высоком смысле этого слова.
Потому что у больших ученых (отцу прочили блестящее будущее) должны быть именно такие жены. И кто знает, сколько великих человечество получило лишь благодаря этим самым "половинам".
Только много лет спустя я пойму, что его гибель явилась для тебя не потерей мужа и любимого человека - это была потеря призвания, смысла, цели жизни.
И здесь причина твоих слепых беспорядочных метаний.
От работы к работе, от мужчины к мужчине, от роли к роли.
Корабль без компаса...
Ты переиграешь десятки ролей, неудавшихся, не твоих.
И когда, наконец, вспомнишь о роли "мать" и решишь, что вот твое "то", единственное, я буду уже почти что в другом измерении, за несколько тысяч дней от голубой насыпи.
Дней без тебя.
Меня будет шокировать этот внезапный шквал родительских чувств, все твои "моя маленькая", "надень кофточку", твои поцелуи и прочие "нежности".
Ты покажешься мне смешной и нелепой, как старая дева со сборками и ужимками школьницы. Мне, Иоанне Синегиной, печатающей в городской газете свои вдохновенные опусы на морально-этическую тему.
Знатоку человеческих душ.
Твоей дочери.
И потом, еще через несколько тысяч дней, сама в голодной запоздалой тоске по твоим "моя маленькая" и "надень кофточку", мучимая стыдом за тупую чёрствость, я буду трусливо откладывать встречу с тобой, должную наконец-то соединить нас, мать и дочь.
А пока что посылать тебе в Керчь открытки к праздникам.
"Дорогая мамочка, поздравляю тебя..."
Всегда не любила и не умела писать письма.
В Керчь ты переедешь после моего замужества.
Там родился и вырос Аркадий Синегин.
Там вы познакомились на пляже.
Он подошел и сказал:
- Девушка, вы, по-моему, сгорели.
Тебе в этой фразе чудилось нечто символическое.
Телеграмма из Керчи меня не застанет - туристская поездка по Италии.
Посовещавшись, мне решат не сообщать и не расстраивать - всё равно ведь ничего не изменишь.
Я опять опоздаю к тебе. В последний раз опоздаю к тебе, мама!
- А у меня черепаха, - хвастает Яна голубым цветам. - Она домики надевает. У ней во-о сколько домиков. Пальто-домик, платье-домик...
Цветы удивленно покачиваются на неправдоподобно длинных стеблях.
- Ой, мама, мамочка, уже поехали...
Сейчас мама встанет, чтобы закрыть окно, она боится за Янины уши.
С ее колен, звякнув, упадут ножницы.
И пока она нагнется их поднять - всего пять секунд, Яна будет еще видеть летящую мимо голубизну.