На амбразуру.
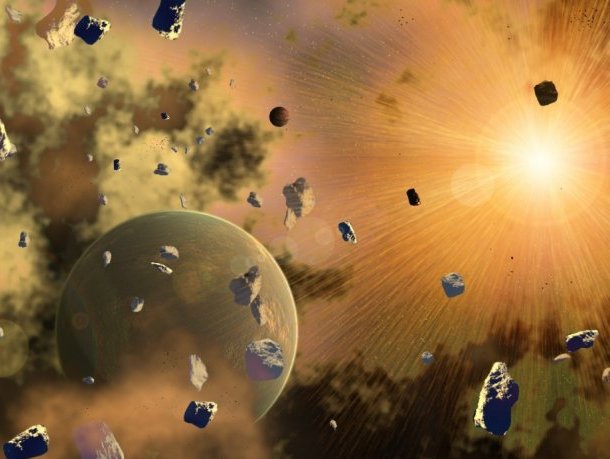
Вот уже десять лет как её страну, в которой она выросла и прожила жизнь и которую любила, захватил многоглавый дракон.
Он разодрал землю на части - каждой голове по куску, разорил, осквернил, оплевал и опоганил всё вокруг.
Он жрал всё подряд - воинов, взрослых кормильцев, стариков, невинных девушек и детей. Жрал не только тела, но и души, заставляя служить не высоким идеалам, а пищей своей ненасытной многоглавой похоти.
Дракон заразил страну своей жаждой крови, и люди азартно расхватывали остатки кровавой пищи с барского стола, не думая, что это кровь их ближних.
А то и пожирали этих ближних сами.
Она привыкла к дракону, к тому, что он непобедим.
Что жертвы спокойно роют себе братскую могилу, умоляя лишь заплатить за рытьё, чтоб было на что выпить и закусить перед смертью.
Она привыкла, что клятвоотступников возводят в святые, а верных до гроба - в предатели. Что всё отныне не то и не так. Что артиллерия бьёт по своим.
Что белые лебеди чернеют на глазах, лев сдаётся комару, а голова голосует за своё отделение от тела.
Что червонцы превращаются в пустые бумажки, полуголые гражданки всех возрастов, в тачках и без, снуют по городу, а на всевозможные "сеансы с разоблачениями" уже никто не обращает внимания.
Что самолёты падают людям на головы, наши бомбы - на наши мирные дома. А вылезающие из-под руин старухи интересуются не судьбой близких, а чем закончилась очередная серия "Санта - Барбары".
Что киногерои, по которой прежде молодёжь сверяла свою жизнь, доживают жалкими придворными шутами и шутихами. Что многочисленные Иваны Бездомные со свечками и в кальсонах бегают за чёрными котами по Патриаршим.
Она привыкла к этому вдруг воплотившемуся в жизнь абсурду, когда "кости встают дыбом", "кровь застревает в жилах", и "волосы стынут в горле".
К тому, что "Мы рождены, чтоб Кафку сделать былью", что всё здравое и разумное отныне невозможно, лишь прямиком в эту проклятую смрадную пасть.
Что уже "близ, при дверях", и летит птица-тройка не вперёд, не назад, а к чёртовой бабушке, в бездну.
Она убеждала себя, что весь этот апокалипсис предсказан в Библии, что колесу истории противостоять невозможно.
И что Егорка Златов со своей распрекрасной Изанией, сын Варвары и Глеба, просто существует в каком-то ином измерении, недоступном дракону, куда дракону нельзя.
Как никогда не прорвется в сказочную страну, куда улетела Дюймовочка, какой-нибудь озверевший танк с кротом и мышью в кабине и не пальнёт из пушки по эльфам...
Она знала изначально - с Егоркой ничего не может, не должно случиться.
Покров Божий над ним, ибо Господь не посылает испытаний сверх меры и не случайно дал Егорку её отчаявшейся гибнущей стране.
"Волос с головы не упадёт, " - убеждала, уговаривала она себя, и всё же уехать почему-то не могла.
Обычно они стреляют у подъезда, когда жертва садится в машину.
Или в самом подъезде.
Или подкладывают бомбу.
Или из оптического прицела с чердака соседнего дома...
Подъезд ребята наверняка проверили...
Нет, она всё же дождется, и спокойненько поедет на дачу, и будет смеяться над своими страхами.
Только бы наши из окна не заметили, что она, дурёха, здесь торчит.
Хорошо, что темнеет.
В опостылевшем "Мире новостей" уже нельзя было различить ни строчки, когда они, наконец, вышли - Егор, Айрис и Варя.
Расцеловались. Айрис села впереди с шофёром, Егорка с телохранителем сзади.
Она пригнулась на всякий случай, услыхала шум отъезжающей машины.
Хлопнула за Варей дверь подъезда.
Ну вот, теперь и ей можно в путь.
Она повернула ключ зажигания.
И в ту же секунду увидала в зеркале выползающий из-под арки чёрный мерс с зажжёнными в сумерках фарами.
Белой и жёлтой.
Господи, этого не может быть, этого не должно быть...
И всё-таки это происходило.
Как в кошмарном сне разноглазый, неизвестно откуда взявшийся мерс выползал из черной бездны арки, поворачивая направо.
Она сразу поняла, похолодев, что он сейчас там, у аптеки, развернётся и промчится как раз под ней, по дороге под насыпью.
Потом выскочит на проспект и понесётся чёрным разноглазым демоном за мчащейся к аэродрому егоркиной машиной.
В молниеносном прозрении она увидела, как мерс настигает их, бьёт по колёсам, прошивает молниеносной очередью шофёра, Егорку и Айрис с будущим бэби, девочкой по имени Мария, самым чтимым по обе стороны океана.
Смрадно взревёт мотор, сверкнут разноглазые фары. И он, безнаказанный, неуловимый, несудимый, умчится в ночь, как всегда, победив.
И не будет никогда ни Марии, ни Айрис, ни Егорки. Снова только ночь, беспросветный этот апокалипсис...
И она ничего, ничего не может сделать.
Ну уж нет. Никогда!
Неистовая, нечеловеческая ярость, вся ненависть этого десятилетия, накопленная день ото дня, придавленная, заглушаемая прежде разумом, осторожностью, инстинктом самосохранения, прорвавшись вдруг, сжалась и скрутилась внутри каким-то невероятной плотности ядром, сродни тому первозданному, космическому, из которого полетели когда-то во все стороны галактики со скоростью света. Чудовищной плотности точка, готовая к свершению. Ненависть к этому многоглавому драконову отродью, всеоскверняющему и всепожирающему - Родину, святыни, чистоту, судьбы, тела, души.
Ну уж нет!
Она знала, что делать. Ни страха, ни колебания не было, только упоение, восторг от предвкушения наконец-то их остановить.
Смертельным кляпом влететь в их смрадную прожорливую глотку и разнести в клочья.
Так, наверное, кидались на амбразуру, шли на таран.
Заткнуть!
Откуда-то издалека, из детского прошлого, может, из какого-то фильма донесся светлый и чистый зов трубы.
"Поднимайся, барабанщик!"
И ещё откуда-то властное:
"Встань и иди".
Кровь в висках четко отсчитывала секунды - она уже каким-то сверхчутьём распределила их.
По возможности осторожнее сползать с насыпи, - какое счастье, что она поставила машину носом к дороге! - и потом резко нажать на газ.
Вот машина ползет, ползет, зависает, клюет носом...
Ну ещё, миленькая, ещё мгновенье!
Ей казалось, что жигулёнок дрожит от нетерпения, готовясь к прыжку, они теперь были одно целое.
Разноглазый мерс ещё не видит опасности.
Развернувшись, он мчится прямо на неё, ревя мощным мотором и набирая скорость, уже слепят его фары.
Колесо истории, которое она призвана остановить.
Помоги, Господи...
Всё. Пора.
Машина заскакала по насыпи, задёргался в руках руль, взревел мотор.
Истошный вой клаксона справа, заметавшиеся фары, визг тормозов.
Всё, ребята, свершилось.
"Чудище обло, огромно, озорно, стозевно и лаяй".
-Жри, гадина! - то ли прокричала, то ли подумала она, с наслаждением швыряя в надвигающуюся разверстую огнедышащую пасть этот свой торжествующе-победный крик.
Бешено раскручивающуюся, как праща, ярость вместе с плотью, сознанием, душой, железом и страшным апокалиптическим хрустом, скрежетом, огнем и крушением всего и вся.
Его зубы вонзились в неё.
Но ошеломляющаяся невозможная боль утихла, едва начавшись. И закувыркался мир, что-то вспыхнуло, грохнуло, заметались в кувыркающемся мире огненные отблески.
- Это они, они! - краешком сознания поняла она. - Теперь им не добраться до Егорки.
Свершилось! - в победном ликовании пело, орало всё её уничтожаемое, дробящееся, кувыркающееся вместе с машиной естество, и невыразимое неземное наслаждение было в этой смертной муке.
Так, наверное, умирает зерно, прорастая в иное измерение. Побеждает, уничтожаясь.
- Я сделала это. Неужто сделала?..
И когда всё остановилось, замолкло, погасло, когда сжатая, раздавленная, стиснутая со всех сторон - островок сознания, тонущего в сплошном океане какой-то тупой, отстранённой, будто не её боли, - она ещё раз успела подумать, что вопли, сполохи и рёв пламени - это там, у них, в Вампирии.
И блаженно-райским было видение мчащейся по шоссе егоркиной машины, в аккурат успевающей на полуночный заокеанский рейс.
Остановись мгновенье...
В прекрасном этом мгновении вечно летел в довоенном синем небе запущенный отцом змей, вечно танцевала она с Ганей, скинув туфли, на пушистом Регинином ковре. И вечно мчалась по шоссе в вечной безопасности Егоркина машина, спешащая на полуночный заокеанский рейс.
Дальше всё происходило уже в ином измерении.
Чьи-то голоса, прикосновения, отзывающиеся всё той же "не её" болью, то озабоченные, но чаще любопытные пятна лиц, носилки, ослепительная лампа над головой...
Потом лампа станет то ли луной, то ли солнцем - не разберешь из-за наползающих отовсюду туч.
Тучи сомкнулись и пошёл дождь.
Капли были острыми, раскалёнными, жалили нещадно.
Иоанна едва спаслась от них в какой-то полутёмной и душной то ли оранжерее, то ли галерее, где можно было продвигаться лишь по узкой дощатой дорожке. Едва отклонишься - снова капли-иглы вонзались в лицо, шею, руки...
Иоанна старалась идти только вперёд, не обращая внимания на расположенные вдоль тротуара то ли кадки с засохшими стеблями, то ли пустые рамы из-под картин...
Как душно, дышать всё труднее, скрипят доски под её шагами, хотя ног своих она не чувствует.
И что-то ей всё это напоминает, что-то очень давнее и страшное.
Этот деревянный коричневый прямоугольник, к которому она неотвратимо приближается. Четыре ромба с облупившейся краской, криво прибитая ручка...
Дверь с ромбами!
Нет, Господи, только не это.
Сейчас она проснется, и тот давний детский кошмар окажется лишь пустой заблудившейся во времени страшилкой...
Но проснуться не получается. Назад, вправо, влево - не получается - везде огненные иглы впиваются в шею и плечи.
Но пусть уж лучше иглы...
Она задыхается, бороться нет больше сил.
Дверь открывается медленно, Иоанну втягивает в неё, как в чёрную воронку, чёрная вода пополам с чёрной глиной склеивает глаза, нос, губы...
И дверь гулко захлопывается.
За ней нет ни галереи-оранжереи, ни огненных разящих игл, ни чёрной воды пополам с чёрной глиной, ни боли, ни самой Иоанны.
Есть только последняя мысль Иоанны. Остановившаяся, как стоп-кадр, отчаянное:
- Вот и всё.
Эта застывшая мысль и была отныне самой Иоанной, всем, что от неё осталось и ныне, и присно, и во веки веков.
"Вот и всё".
Навеки заевшая пластинка, навсегда остановившийся кадр.
Вечная Иоанна - мысль по имени "Вот и всё".
Конец фильма, где она сыграла свою жизнь. Гаснет свет, зрители расходятся по домам. Все, кроме неё.
Вот что такое ад.
Ни раскалённых сковородок, ни небытия. Лишь бессмертная кромешная мысль, что уже никогда ничего не будет.
И где-то есть Вечное и Прекрасное "Всё", от которого она навеки отлучена.
- Чего вопишь-причитаешь? - проник во тьму кромешную вкрадчивый шепот /Разве она кричала?/ - Ещё не пробило полночь, Иоанна, ещё есть шанс вернуться.
Просто проедешь мимо храма, и никаких тебе узбеков с разными глазами, никаких "Мерсов"...
Проснешься в Лужине с небольшой мигренью, вот и все дела.
По рукам?
- А Егорка? - не спросила, а подумала она.
- Что "Егорка", дался тебе Егорка, проживём и без Егорки, - ласково шелестел Шёпот, - Открутим твой фильм назад и прибавим ещё пару серий с хэппи-эндом.
А Егорка останется в предыдущей серии - разве не бывает?
Внезапная кончина актёра, поправка поневоле...
Ты же профессионалка, Иоанна...
Иоанна-мысль "Вот и всё" стала Иоанной "Нет".
- Ну, на нет и суда нет, - подосадовал Шепот, - Наше дело предложить.
Приоткрывшаяся было дверь с ромбами, за которой пахнула бензиновым шумом московская улица, снова захлопнулась гулко.
Но Иоанна уже знает - это не совсем конец, коли есть выбор.
Значит, есть и другая дверь, в прошлое.
Там лестница, ведущая на второй этаж в детство, к самым истокам бытия Иоанны...
Надо лишь перемотать кассету на начало.
А там, за дверью, как тогда, мама...
И мама, конечно, спасёт.
Но по-прежнему ни дверей, ни стен, ни самой Иоанны.
- Господи!.. - взывает Иоанна-мысль.
И вдруг тонкий золотой луч спасительным проводком пробивает толщу тьмы, влечёт за собой.
Иоанна оказывается замурованной в стене, снова чувствуя тело - сгусток нестерпимой боли и адского холода.
Сплющенный со всех сторон этой стеной, так что нечем дышать, под странно белым слепящим солнцем. Вокруг которого плывут, кружатся в замедленном хороводе белые маски.
И надо вырваться от этого застрявшего в стене собственного тела, как дух из бутылки...
- Господи!..
И золотой луч помогает ей.
Она уже видит в проломе стены слабо-призрачную желтизну лампочки под лестницей, ведущие на второй этаж щербатые ступени, мамин силуэт в этой желтизне, её протянутые руки, выдирающие из боли, холода и тесноты бесценную свою Яночку...
Узкое горло бутылки сжимается до невозможности.
- Ма-ма-а!..
Внезапная волшебная лёгкость, и всё начинается сначала, с самого первого кадра.
Когда она впервые подумала:
- Я хочу.
И удивилась этому своему новорождённому "Я".